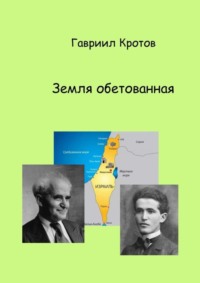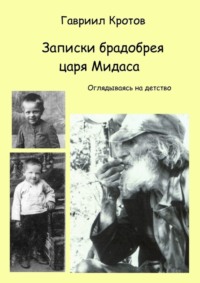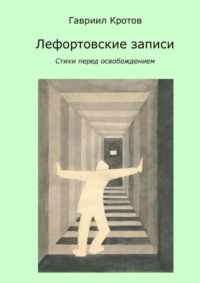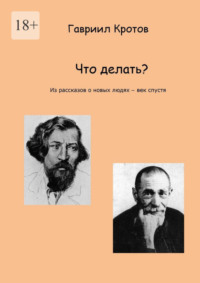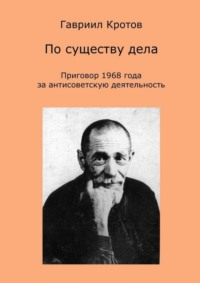Полная версия
Мы будем вместе. Письма с той войны
На бюро райкома разбирали дело о бытовом поведении Н. Обвинив её в проституции, её исключили. Мой протест, и ещё одного, потонули в море презрения. Помню, меня трясла малярия – я ушёл на двор, лёг на смолистые доски и решил написать в стенгазету:
Только спустится солнце – и с грустью онаНа крыльце о былом вспоминает,А на небе с насмешкою смотрит луна,Караульщик лениво шагает.Так недавно она в комсомоле была,В районе работала дружно,А в райкоме примерной и честной слыла,А теперь… теперь стала ненужной.У родных кое-как по-собачьи жила,Все работу искать посылали,А когда услыхали, что «нет, не нашла»,Как чужую, из дома прогнали.Обратилась в ячейку – нельзя ль, мол, помочь?Ей в ячейке работы не дали.И затмилася жизнь молодая, как ночь,И с тех пор её редко видали.Вспоминает она, как она продалась,Как она в этот омут спустилась.Перед вами она – словно спать собраласьМёртвым сном – до поры износилась.Вот вчера на бюро разбирали дела,Так её для допроса призвали.Безбоязненно нервнобольною пришла,А её проституткой назвали…И т. д.
Поместили в стенгазету, а девчата чуть не разнесли райком. Булатов ругался:
– Дёрнул чёрт тебя цицеронить.
Слабенькая вещь, но по тому времени, моему возрасту и соцположению она казалась острой.
Продолжение следует.
Перешёл на работу в школу преподавателем ИЗО
(без даты)
Поощрённый успехом (о мёд славы!), я разразился залпом кабацких стихов. Тогда модно было петь о…
…Скучно мне в омуте жуткомЗавершать свой недолгий путь.Я готов сегодня проституткеИсцарапать до крови грудь.Конечно, грудь я никому не царапал, к проституткам не ходил, но меня радовала эта человеческая слава, и писал в этом духе, читал стихи «замогильным» неестественным голосом. Девушки жалели меня.
Но Беленинов написал:
Мой милый друг, ну что с тобою стало?в «Смычке» прочитал, но нет, не может быть!Не может быть, чтоб в пошлости скандалаПогиб поэт, порвавши жизни нить!Нет, нет, не верю я! Не может быть!…Скажи, когда впотьмах ребёнок вдруг заплачет,Ты не зажжёшь огня, чтоб разогнать кошмар?Так как ты смеешь пить, когда твоя задача —Огнём стихов питать борьбы пожарИ тех, кто пасть готов, вновь дыбить на удар…Много он сделал для меня. Но я ревниво держался за свою «славу», которая радовала меня, хотя я и видел, что мои «почитатели» – как раз те люди, которых я не любил. В комсомоле на меня смотрели презрительно, но мне было всё равно.
Наконец я уехал с Темафом (театр малых форм) декоратором. Полтора года пьянства, халтуры, переездов. Покамест не очнулся я в Саратове под лодкой, в жутком похмелье, грязный, с грязными товарищами.
Я ушёл в баню, вымылся, оделся и… уехал на первом попавшемся пароходе. Астрахань, Гурьев.
Над страной пронёсся новый ветер. Пятилетний план, реконструкция, догнать и перегнать. Я увидел, что наши серые люди работают в своей стране, как трудолюбивый садовник, а мы, культуртрегеры, валяемся в травке, любуясь красотой сада, издеваясь над беспорядком, который сопутствует каждому строительству, рыча: «Нам красоту дайте!».
Работал в ГПУ, сотрудничал в газете. В 1929 году перешёл на работу в школу преподавателем ИЗО41. Учился и окончил вечерний учительский институт, факультет истории. Но эта блицсистема, основанная на бригадном методе, мне не дала удовлетворения.
К урокам я готовился больше, чем к зачётам. А сколько было таких калек или просто профанов, не знавших, куда приткнуться. Да, кстати сказать, мало ли их сейчас, обросших стажем и опытом.
Тут я пережил свою любовь. Чистую, святую любовь, не запятнав её ничем. Но стоит ли писать о ней? Это так скучно и, при рассказе, слишком романтично.
Убежав от неё (этой любви), я очутился в захолустье Средней Азии. Пахта-Аральский район, бывшая Голодная степь, где я был «культурным человеком с громадной эрудицией», сравнительно со средой. Были и там образованные люди, но это были ссыльные троцкисты, СВУ42 и прочие.
Я боюсь, что по поводу этих писем ты скажешь афоризм Козьмы Пруткова о фонтане.
Но, Муся, клянусь, что работал добросовестно, дальше опишу. Боюсь, что ты, прочитав всё это, отвернёшься от меня. Ведь я не знаю, каким покровом одела меня твоя мечта, «а ведь король-то голый».
Ну что ж. «Не по хорошему мил, а по милу хорош». Если эта пословица не оправдает себя, значит, наш замок был построен на песке.
Но это не случится? Да?
Целую твои тёмные глаза, способные видеть светлое. Твой Ганя
Тогда была мода разоблачать, и меня начали разоблачать
(без даты)
Меня немного удивили твои вопросы о моей женитьбе, аресте. Я, помню, рассказывал об этом, так же, как о моей первой любви к Д., так что считал лишним писать уже известное тебе. Но напишу без прикрас и вполне откровенно.
С 1930 по 1934 год работал в городе Самарканде в школе-гиганте. Но после изнурительной болезни тропической малярии сестра и её муж уговорили переехать к ним в колхоз. Так из Самарканда я переехал в Пахта-Арал. Остальное ты знаешь.
Работа заполняла всё моё время. К женщинам я был или равнодушным, или цинично прямым. В это время к брату приехала учительница. Это была очень молодая девушка. Мне понадобилась учительница, и я уговорил её остаться на работе в школе. Она согласилась. М. смотрела на меня, как на Юпитера, боясь, как директора.
Сестра и её муж уговаривали меня жениться, чтобы упорядочить жизнь. На каникулах я провожал М. к брату в Ташкент (который меня прекрасно знал). Я был её провожатым по городу. Так началось знакомство. Это была в высшей степени скромная девушка. Скоро я заметил, что она расположена ко мне. Полтора года длилось это знакомство. Наконец я последовал умному совету и женился. Ты спрашиваешь, как это без любви. Да очень просто, как тысячи других. Обманывал ли я её? Нет! Я уважал её как человека, друга, потом как мать моего сына. Но любви, со всеми муками сопутствующими, не было. Да после Д. её и не могло остаться. Я прожил бы век, не подумав ни о какой другой женщине.
Она была хорошей женой, а я мужем. А «о другом» я говорил с Петром Константиновичем и другими, помогая, однако, обсуждать приготовления варений, засол и т. п. Любил принимать гостей. Но со своими производственными мечтами я уходил глубоко в себя и занимался своими делами сам.
Положение было блестящим, то есть признанный авторитет, материальная обеспеченность, налаженность работы.
В 1936-м всё это рухнуло. Меня обвинили в отрицании возможности построения коммунизма в одной стране и… антисемитизме, так как я объяснил, что евреи не нация (на основе определения Сталина, 4 признака наций). Тогда была мода разоблачать, и меня начали разоблачать.
Я заметил, что мои товарищи от меня отвернулись, в РК не слушали, РайОНО копалось во всех моих конспектах. Наконец меня сняли с работы и исключили из партии.
Боже, сколько грязи вылили на меня.
Мой свояк – 2-й секретарь РК – советовал уехать на Украину, то есть бежать. Я не согласился, не чувствуя вины. Начали уговаривать жену, чтоб она разошлась со мной, но она отказалась. Тёща устраивала дикие сцены «губителю счастья дочери».
Однажды я выпил перед обедом рюмку вина, как обычно делал, почувствовал резь в животе и головокружение. Я чувствовал отравление. Вызвали доктора, и я попал в больницу. Жене запретили являться ко мне, на телефонные звонки отвечали, что её нет дома. Я сбежал из больницы на попутной машине и явился домой. Меня испугались все, М. тоже. Оказывается, что моё отравление объяснили как попытку самоубийства из-за опасения ответственности.
Хлебнув для храбрости немалую чашу пенного, я явился на квартиру к своему власть имущему родственнику, ворвался к нему в спальню, и он проснулся, увидев перед собой моё искажённое злобой лицо, я держал его за ворот сорочки и встряхивал. Он сознался, что он действовал нечестно по отношению ко мне, но он не может идти против общего мнения, он не может рисковать своим благополучием и семьёй. Как он был гадок в эту минуту.
Значит, я должен быть козлом отпущения. Но быть просто козлом – скверно. И я не согласился с этой ролью.
В конце концов, я должен был уступить жене и ехать на Украину. Перед отъездом меня арестовали, продержали 17 дней без права выезда, но потом дело прекратили. На Украине (пограничная полоса) встретили меня недоверчиво и чуть не запретили проживание в Жмеринке.
Итак, я мог рассчитывать на работу чернорабочего, пока не добился нескольких магических бумажек.
Нет, тяжело рассказывать.
Сколько я увидел хороших друзей, которые показали мне спину, видел простых людей, дававших мне ночлег и пищу. Видел деликатную ложь и подлость. Но это не сделало меня мизантропом, а показало наглядно одну из черт человеческой психологии.
Всё это прошло.
Мог ли я не ценить М.? Не каждая женщина способна противостоять такой силе и променять благо жизни на жизнь с человеком, репутация которого была залита грязью. Но М. знала меня и не верила этому.
С той поры я любил её как лучшего друга (а это побольше, чем жена).
Ты удивляешься, что я женился без любви. Но я её пережил. И так любить уже не мог. Любил М. по-своему, как мог. И не ожидал, что смогу когда-либо полюбить. Тем более не представлял, что это будет «неравная любовь».
Но злой джинн решил сыграть со мной шутку и теперь хохочет, сотрясая скалы, любуясь, как мужался я три дня, когда не было от тебя писем. Потом подымет надо мною свою ступню и спросит: «Ты был минуту счастлив? Так погибни». И ведь не докажешь ему, что мне нельзя умирать, не поцеловав тебя.
Сегодня очень трудно было писать. Всю ночь была суета, шум, гам, песни, отвлекающие вопросы и дела.
Сейчас уже 4-й час, устал страшно, а в 6—7 часов надо быть на ногах и без кислой физиономии. Но у меня в кармане 3 листа твоих писем, на дворе будет солнце, Муся меня любит, я жив, что ещё нужно?.. Все?.. Подождать. Вы иногда умно рассуждали: «Разлука – испытание любви». Пользуйтесь случаем! Испытывайте. Риск потерять? Но это может случиться значительно позднее потери головы.
Я начал бредить. Ганя.
Последний оплот перед Днепром,
село Ляплёво
(без даты)
У Днепра.
Танки рвали пространство, откидывая пройденный путь гусеницами своего хода. Сердца экипажа работали в такт мотору и рвались вперёд. Грозная машина и человеческие сердца казались одним целым. Яростно и беспощадно давили они метавшегося противника, не успевавшего укрепиться.
Вчера ещё гремели танки по улицам Гадяча, а уж сегодня они проходят Гельмязово. Вот последний оплот перед Днепром, село Ляплёво. Мы стоим на опушке леса, готовые рвануться на прорыв, железным тараном пробивать ход пехоте.
Авиация ведёт подготовку. Гул самолётов, визг бомб и взрывы – вот оркестр, исполняющий прелюдию победы. Высоко поднялся столб пыли и дыма. И только самолёты легли на обратный курс, как рванулись танки.
Загудели леса и дюны от мощного гула. Машины врезались в пыль и дым, сокрушая своим ходом противника.
Промчались через село, переехали ложбину, входим в лес в пойме Днепра. На бугре на какую-то долю минуты танки встали, открылись люки, поднялись автоматчики, улыбка показала жемчужный оскал зубов.
– Огонь! – и мощный залп ударил по песчаной полосе Днепра, где метался противник.
Так, наверное, средневековые рыцари глядели на Иерусалим. Днепр для многих был родным и великим: там лежит Украина, там родные места, дом, любовь.
– Вперёд к Днепру!
Падают под танками деревья, колонны танков тонут в туче пыли, слышится только гул, который далеко разносит эхо. Кончился лес. Шквал огня обрушился на остатки войск и Заднепровскую оборону.
Мотопехота подъехала к танкам, соскочили с машин и кинулись к воде. На досках, на плотах, понтонах, резиновых лодках устремились к крутым берегам Заднепровья. Днепр кипел от взрывов, но люди плыли упорно вперёд. С высоких берегов лил пулемётный дождь. Вот первые бойцы вступили на заветный берег и устремились к глиняным обрывам. Многие падали с высоких яров, уже достигнув верхнего края. Но серые люди всё шли, ползли, цеплялись за траву и кусты, ножом делая ступеньки. Казалось, это двигаются муравьи, гибнет первый ряд, а по их трупам идут вторые ряды. Земля сотрясалась, как в судорогах. До ночи бушевал огонь артиллерии. Семь атак одна за другой были отбиты за ночь. К утру мы имели четыре километра плацдарма за Днепром.
Впереди лежала Украина.
Мы стоим на Заднепровской земле, хотя знаем, что враг примет все меры, чтобы сбросить нас в Днепр. Но приказано отдыхать.
Наспех отрываем окоп, закидываем верх ящиками – вот и готова солдатская вахта. Мокрая одежда, холодный песок, грязь. Только горькая махорка, подсушенная в каске, подгоняет работу сердца. В окно лезет Ивакин:
– Эй, гвардейцы болотные, согрелись?
– Что, Андрюша, жмёт русского солдата в английском сукне?
– Есть грех, братцы. Пустите переночевать.
Укутав затвор автомата носовым платком, он протискивается в окоп. Тесно, но теплей. Взаимно жмём друг друга.
– Эх, жизня! – вздыхает Черкасов.
– Друг ты мой Лёня, не плачь, золотко. Брось детскую привычку от мокрых коленок плакать. Пупок не разъест, не бойся.
Барсуков43 мечтательно говорит:
– Лежим мы с вами вот здесь. Клянём жизнь. А когда-то сказки о нас рассказывать будут. Сегодня форсировали Днепр. Видел ты сегодняшнюю картину?
– Нет, браток, не заметил что-то. Билетов не застал. Ваш брат, орденоносцы, расхватали.
Но скоро и он переходит на мечтательный тон, уверяя, что русский солдат всё может. Говорит с восторгом о русском солдате, как о хорошо знакомом, не чувствуя, что это он.
Надо выходить в секрет. Едва согревшееся тело охватывает холод и сырость. И авторы чудной эпопеи жмутся, стараясь согреть тело или сохранить остаток тепла.
Сон смежает веки. Сквозь дремоту представляешь фойе театра, электричество, тепло, красоту и нежность женщин.
Назойливый вой мин разгоняет дремоту. Началась артподготовка. Жди атаки. Снова натянуты нервы, а перед собою видишь стратегические бугры и ждёшь атаки…
(Атака – из очерка «О Трянке»44. )
Утром прибыла пища, взошло солнце, и крайности были не нужны. Жизнь была снова хорошей, только из неё ушёл Чуднов и ещё несколько товарищей – литеры этой сказки, собранные в гранки боевых рядов.
Это не очерк, тем более не что-либо, претендующее на литературность. Ты видишь, что тут почти нет исправлений, а написано под галдёж, песни и шум.
Высылаю тебе вырванный из дневника листок с записью, сделанной в окопе. Посылаю тебе в подтверждение мыслей об образовании. Эти мысли возникли не в Москве.
Такие записи я делал в период боёв, большинство их погибло, теперь буду посылать тебе, но надеюсь, мы встретимся раньше, чем появятся новые записи.
Скоро придёт почта. Будет ли письмо? Я даже передоверил работу, чтоб застать её приход первым.
Глава 3—3. Жду каждый день хотя бы маленькой открыточки
Проходя по улицам, я видел плоды работы
24.4.44
Испытания45.
Я помню эти дни так чётко, словно это было вчера.
Широкие улицы промхоза, обсаженные пирамидальными тополями. Красивые дома «нового типа». Школьный двор, куда я любил приходить с первыми лучами зари. Дорожки, усыпанные гравием, обложенные углами кирпичных половинок, которые дети разыскивали неизвестно где, любовно украшая дорожки метр за метром. Изумрудная зелень джерика (дёрн), кусты шиповника, покрытого хлопьями цветов. Вот громадный куст, привезённый осенью на тележке учеником Гриненко, выкопавшем его со всей корневой системой, так что куст почти не болел и распустился пышным букетом. 24 куста таких роз. Вокруг здания школы разбиты газоны, рассаду цветов выращивали девочки. Посредине двора круглая скамейка вокруг белой акации. За школой – беседка, обвитая хмелем. Спортплощадка, которую окружает дорожка, обсаженная вишнями, уже покрытыми розоватым снегом цветов. Всё это сделано нами. Каждый куст имеет имя, своего покровителя.
За час до занятий дети сходятся на школьный двор. Словно здороваясь, они осматривают свои кусты, газоны, деревья.
Теперь двор ещё более красив. Свежие детские лица, белые блузки, синие юбочки, мальчики в простых костюмах. Это уже не те медвежата, что нелепо махали руками при полёте мяча на волейбольной площадке. Нет. Они умеют распоряжаться своими движениями, придавая им красоту. Пожалуй, даже кокетство. Дети одеты в одинаковые костюмы. Это стоило мне споров с кооперацией, дирекцией, но это однообразие красиво.
Группы детей повторяют уроки, спорят, обсуждают. Ласково, как матерей, встречают учительниц. Восьмиклассники остро иронизируют с директором Зерманом.
Нет, эта школа живёт и должна жить. Испытание сдадим.
Перед вечером учителя и ученики в школе. Идёт усиленное повторение материала, но это не мешает сыграть в крокет и волейбол, провести занятия с октябрятами. Мои милые вожатые Надя и Вера, какие чудные учительницы и воспитательницы будут из них. Меня удивляла эта терпеливая, настойчивая забота, материнская нежность и немое доверие октябрят к ним.
Дни становились всё напряжённей. Больше всего нас беспокоили знания татарки-семиклассницы Фатимы. Прогуливаясь с ней по аллее, мы беседовали о её знаниях. Она уверяла, что «она дурной», но я убедился, что материал она знает. Я предложил ей готовиться на татарском языке. Это привело к ужасу – лучше заучить назубок…
Наконец, начались испытания. Школьный двор шумел, как потревоженный улей. Девочки смеялись, но чувствовалась слишком короткая дистанция до слёз. Наконец, подъехала М-1, и в школу вошли представители областного и республиканского Олимпа. Их поразила чистота, красивая форма детей, их непринуждённость в разговорах (ирония – мой конёк).
– О, кандай елу балалар! (Какие красивые дети!) – высказал свою мысль заведующий ОблОНО Андижанов, восхищаясь садом, цветами, детьми.
– Гавриил Яковлевич – любитель эффектов, – скептически заметил Балмухамедов. – Но мы будем говорить потом.
Начались испытания.
В классе шли испытания по истории. Отвечает Квашнин. Стройный красавец, умница, он спокойно, подчёркнуто спокойно, берёт карточку, не обращая внимания на представителей, делает выписки и начинает изложение ответов. Его спокойствие передаётся детям. Бучков свои ответы не задерживает обдумыванием, но строит речь живо, образно и юмористически. Фатима долго сбивалась, но на наводящие вопросы, заданные по-татарски, ответила на татарском языке, что этого (изложение) она никак по-русски сказать не может. Андижанов рассмеялся.
Первые испытания прошли блестяще.
За обедом много говорили о детях, их непринуждённости, знаниях и красоте. Представители дали согласие побывать на торжестве окончания учебного года.
Проверка знаний окончилась. Результаты занесены в графы и приняты РайОНО. Но вторая часть испытаний волновала меня не меньше.
В это воскресное утро чувствовалось праздничное настроение, словно перед пасхой, когда с утра, среди утреннего беспорядка, идёт усиленная подготовка. Во двор школы стекаются дети. Они в тех же костюмах, но безупречно выглаженных. Красиво взлетают руки для салюта. Идёт лёгкая пасовка, повторяют игры, коллективные танцы.
В 12 часов началось торжественное собрание.
Я не люблю официальные речи, а потому ограничил регламентом. Завучу – 15 минут, заведующему ОблОНО – 20 минут. Председатель Квашнин за 3 минуты напомнил об истечении срока.
Обед на двадцатипятиметровом столе. Кушанья приготовлены в столовой КПХ46 родителями.
В 3 часа начался парад и соревнования. Стройными колоннами проходили отряды, строились в четырёхугольник, оцепив спортплощадку. Прошли выступления октябрят, живгазеты, упражнения на турнике, трапеции, прыжки, метания и гордость школы – волейбольная команда. Играли с совхозом Пахта-Арал, старая команда. Счёт 2—1 не в нашу пользу, но это никого не огорчило. Команда «противников» одобрила чёткость и красоту игры.
– Ну, спасибо, Чернушка, утешил ты меня, – говорил секретарь райкома.
Работа школы наложила свой отпечаток на жизнь промхоза. Дворы были красиво разбиты на деловые площади и красивые пятна газонов. Игры детей были не примитивны, как раньше.
Проходя по улицам, я видел плоды работы, и это наполняло радостью то место, где у человека до революции находилась душа. Но я чувствовал страшную усталость.
В этот год я поехал в Алма-Ату, Чимкент, Ташкент, Москву, Киев, Жмеринку. Это было и свадебным путешествием.
Но школа не выходила из головы. Создавались новые планы. Я видел дворцы пионеров, парки, стадионы, но видел в них то, что можно было перенести и привить в своей школе. В промхоз я привёз альбомы, книги, украшения, эскизы.
Неуверенности в работе не было.
Стоило бы рассказать о деталях борьбы за носовой платок, красивый костюм, организацию речи и движения тела, о привитии музыки, шахмат, об организации классных и отрядных вечеров, хотя это было бы мне нелегко написать, отрываясь от моей современной действительности.
Но это повторится! И это будет не кустарная работа одного педагога, это будет стройная система, проверенная и испытанная людьми повыше меня опытом и интеллектом. Аминь.
Вот ещё побеседовали мы с тобой. Правда, Звёздочка?
Молочных рек и кисельных берегов не обещаю
24.4.44
Милая ты моя очковая девушка.
Ну и язычок у тебя, где-нибудь да кольнёт: «Истинные слова неприятны; приятные слова не истинны», – а примечанием постаралась кольнуть: «почему я должна верить твоим?». Да потому что они неприятны, в них много грубой правды, мадригалов тебе я не пишу, воздушных замков не строю, молочных рек и кисельных берегов не обещаю. Нет, милая Муся, на приятность своих слов я не обращаю внимания, ибо их рождает жизнь, а она у меня неприятная, хотя бы тем, что я не хозяин своей судьбы.
Разбираем другое:
«Не хвались завтрашним днём, потому что не знаешь, что родит тебе этот день». Подчёркнуто тобою.
Хвалиться, конечно, не следует, но надеяться на него и добиваться от него определённой цели необходимо, а полностью отдаваться на волю рока – слабодушие.
А вот насчёт афоризма из Ницше хочется поругать тебя. Вот уж из такой гадости, как Ницше, я ничего бы не взял. Быть рабой желания мужчины – «счастье женщины: он хочет». Дальше это выражено так: «Красота мужчины в его уме, ум женщины в её красоте». Так он последовательно отодвигает женщину до физиологического аппарата, вещи без воли и ума. Разве не бесит тебя подобная картина? Увы, наши женщины, получив свободу, прежде всего, демонстративно надели узкие юбки, не торопясь двигаться вперёд, но ведь есть и такие, как мой Огонёк. А она, эта свобода, есть. Этому я теперь верю. Только меня бесит, когда ты пишешь такие вещи:
«Стараются… сделать хорошей женой и хозяйкой… ведь ты и будешь тем мужем, который будет наслаждаться плодами…» и т. д.
Спасибо, я уже знаю это. Но неужели хоть на минуту тебя прельщает эта жизнь? Не верю, или я ошибся. Для этого хватит флегматичной красавицы, которая, зевая, будет слушать о моей работе, но оживать при отчёте в деньгах. Нет, не верю. Неужели ты примиряешься с мыслью о подобном болотном существовании? Но для подобного счастья нужен не я. Мой бог не Ницше, и не хочу я ЭТИХ мужских прав.
Прости, грубостей наговорил, но не говори того, что ты не думаешь.
Остальные афоризмы чудесны. Жду ещё, пиши всё хорошее и красивое.
Жаль, что «лопнула» школа, вместе с ней пропали и мои письма. Писать буду домой. Буду писать биографические письма, фронтовые зарисовки, не суди их за шероховатые, грубые обороты речи.
Нет, я люблю свою Искорку за её быструю мысль, острый язык, пылкую мечту, ну, грешен, и за её стройную фигуру, брови, глаза и родинку.
Привет от Ивакина. Твой Ганя.
На Украине работы найти я не мог
24.4.44
Работа школы шла хорошо. Школа приобрела свои традиции. Началась невыгодная для работы история: посещения представителей, обследования, доклады, требования автограммы. Но пришлось принять энергичные меры, чтоб огородиться от этого нашествия. Больше говорить о недостатках.
Наконец подошёл 1936 год. Школа кончала учебный год, но тут началась комедия разоблачения. Я смотрел на всё это спокойно, не принимая никаких мер, считая всё это ерундой, глупостью, недостойной сопротивления. Все волнения кончались за дверью квартиры, где был мой сын.
В атаку пошли родственники, которые хотели отнять у меня сына. Но тут я сделался зверем. Я ходил во все места, где решались судьбы человеческие, и требовал или ареста, или реабилитации. Подробности я писал уже тебе в одном из писем. Больница, отъезд, арест, наконец я освобождён, могу ехать куда угодно, работать где угодно, без прав занимать административные и педагогические должности.