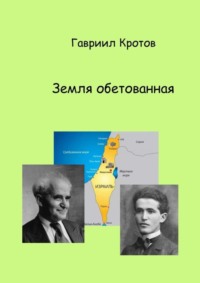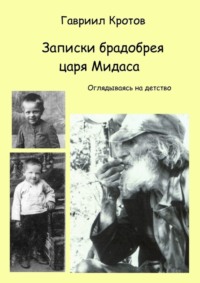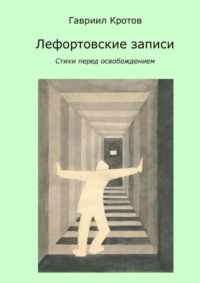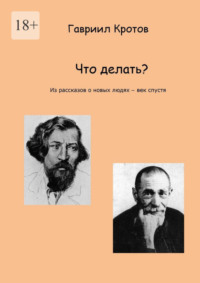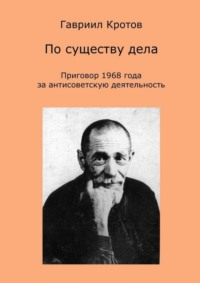Полная версия
Мы будем вместе. Письма с той войны
Шесть утра. Наконец письмо! Я ждал его, верил, что оно будет, но почему ты не получаешь моих? Спасибо, милая, что ты «твёрдо решила, но…». Пусть эти обстоятельства всегда будут сильнее нас. Опять эти выводы: «мама с папой правы; мы с тобой совершенно различные люди». Если бы не любовь к тебе, я зло сказал бы в глаза: «Да, я не из «вашего круга». Раньше я, пожалуй, не посмел бы войти в ваш кабинет, мать моя могла бы стирать ваше бельё, чтоб наработать деньги на ученье сына. Но это прошло. Я не получил воспитания, позволяющего мне болтать в обществе на темы, не требующие обсуждения. Но я гражданин, и этого вы у меня не отнимете. Я человек, и за это могла полюбить меня ваша дочь. Прогнать меня может только она…». Да, много бы я сказал им.
Целую тебя как богиню за твоё решение: «Мне это-то как раз и нравится». Оказывается, у моей Ласточки есть коготки и твёрдый характер.
Жизнь будет хорошей. Позволь по обыкновению говорить с тобой откровенно (а это может быть больно). У тебя на крылышках балласт: Москва, общество, развлечения, цивилизация. И ты в этом хаосе (пусть в системе) блестящая маленькая пылинка.
1. Дома ты девочка, младшая, которая должна помочь взрослой женщине учиться. Да и работа твоя по сравнению с будущей деятельностью эскулапа – игра с детьми.
2. На работе – 5-я или 4-я (не суть важно) спица. Молодая девушка, способная играть.
3. Наедине с собой ты капуста, возбуждающая аппетит козлов, но эти козлы противны тебе.
Люди смотрят покровительственно (молодость). Жизнь большая-большая, а ты маленькая. Так и гибнут блестящей пылью твои знания, мысли, мечты. Хочется жить, но «мама не велит».
Нет, как друг я поступил бы с тобой сурово: серьёзная работа, авторитет работника, положение женщины и опыт москвички.
Быт! Милая, да разве много надо двум людям, способным работать? Да и быт (его прозу) я взял бы на себя.
Ты боишься, что я тоже мечтатель. Нет, слишком долго ползал я по земле (а рождённый ползать…), знаю, что для удобства она плохо оборудована. Но такого состояния у тебя не будет, чтоб после работы ты не захотела идти домой. (Самоуверенно? Но ведь знаю же я силу своей любви.) Ты посмотрела бы на жизнь Абраши и Жени!
Книги, книги. Я не против них, а против твоих очков: не тех, что ты носишь, а тех, которые дают голубой отсвет при взгляде на жизнь. Мне хочется, чтоб нашу любовь скрепила общая любимая работа, и это немаловажное обстоятельство.
Муся, мне кажется, что твои родные недовольны были и твоей дружбой с Х.! Может, я не исключение, не урод из всего общества?..
Не думай о неудачах семейной жизни. Я выбрал тебя одну и люблю тебя. Разве этого мало для жизни и счастья?
Ты просишь беречь себя. Муся, а если бы я выжил за счёт других и вернулся запятнанным, какую долю выбрала бы ты? «Мёртвый лев лучше живого пса». Если не будет отзыва от Ткаченко, я до конца выполню долг солдата или командира. Мне не стыдно будет глядеть в твои тёмные глаза, а они у тебя глубоко видят. Я думаю, что они постараются не заметить пару новых морщинок, лишний шрам или несколько седых волос.
Целую тебя за твоё внимание, за ежедневные письма. Жду их, рад им.
Даже сердясь, пиши
21.4.44
Второй день нет от тебя писем. Рассердилась? Иногда я писал слишком прямо. Но, даже сердясь, пиши. Сейчас получил фото из Москвы. Снялся, оставил адрес. Высылаю тебе. Жаль, что я не имею твоего фото, а хотелось бы иметь твоё фото, похожее на тебя: в очках и с иронической улыбкой.
Муся, не мучай меня молчанием. Пиши хотя бы открытки грузинским шрифтом.
Больше всего я желаю твоего счастья
21.4.44
Наконец-то ты получила мои письма. Прости, что я подозревал плохое. Этого больше не будет. Жаль, что я не могу больше называть тебя Ласточкой. По внешности ты так похожа на неё, а по характеру – выше.
Я думал, что ты будешь робко таить своё отношение ко мне; оказывается, что ты не находишь других тем. Это плохо. Нельзя заставлять всех влюбиться. Было бы великолепно примирить с этим родных. Дуться на них тоже не следует – разве плохо, что они желают тебе лучшего? Ведь ни ты, ни я не отрицаем моих недостатков. Они есть, и родные вправе не мириться с ними. Муся, почувствуй себя матерью – и ты поймёшь (как умно может рассуждать самонадеянный влюблённый). Но если и будет перемена, то истина от этого не изменится. Вот пословицами меня били: кто Юпитер и бык, кто сверчок и где его место, каков вид саней по моему рангу? Но разве, получая такие письма, мучают себя подобными вопросами? – они проходят неприятным холодным ветром, но быстро исчезают в тепле твоих ласковых слов. Не понял, почему рассердился папа: или потому, что ты не простилась с ним, или вообще рассердился?
Муся, послушай внимательно мой совет: тебя уговаривают бросить работу и закончить университет. Разве это плохо? Сдать госэкзамен, иметь оформленное образование, иметь полную систему, «а от неё все качества». Сделать это тебе нетрудно, по крайней мере, сейчас. Дальше будет труднее. И, быть может, ты упрекнёшь себя и меня, а мне это будет тяжело. Пишу это абсолютно объективно. Быть может, мне хочется иного, но больше всего я желаю твоего счастья. А это – счастье. Я готов подчинить свою жизнь условиям, помочь тебе в учении, жить где-либо поблизости, но я ЗА. Я всю жизнь рвался к учению, теперь меня тяготит это, но моя судьба – совсем другое дело. Хочу, чтоб мой Огонёк ярко светил людям.
Ты, добавляя «гм, гм», говоришь, что я наивный. Ну, уж что угодно, только не это. Правила жизненного движения я немного знаю.
Относительно моих партийных дел не беспокойся. Вот Ткаченко молчит, но и на это придёт время.
Прости, что ничего не пишу об Ольшанском, он мне не нравится, я люблю людей, у кого талант сочетается с энергией. Терять можно всё, кроме головы. Не завидую ему, что его жалела энергичная девушка.
Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак.Мы крепки, как спирт в полтавском штофе29.Моя Звёздочка, да, у нас будет праздник. А сейчас разве его нет? Разве мы не стремимся друг к другу?.. Но будем ждать того счастливого праздника. Я много думаю об этом, даже больше, чем это полагается человеку с ограниченными правами на счастье.
Итак, моя излюбленная пословица: «Что подобает Юпитеру, не подобает быку», потому что Юпитером себя я никак вообразить не могу, но ты пиши мне все эти чудные вещи – и они вернутся к тебе обратной книжкой.
Как я обрадован, что у меня есть союзник в лице Маркизы де ля Галка. Целую её. Постараюсь написать письмо и ей.
Девочкам написал давно, но неудачно, так как в это время была сильная суета.
Высылаю фото Ивакина (ведь снимок той компании ты потеряла?). Он написал тебе письмо. Воображаю стиль и орфографию. Но я тебе и не рекомендовал его как грамотного. Зато это не «ребёнок солнца».
Муся, мне хотелось бы, чтоб ты вновь прочла Д. Лондона, «Мартин Иден» и «Лунная долина». Опиши свои новые впечатления.
Вечера иногда провожу у Абраши и Жени. Вчера они послали тебе письмо. Почему-то Абрам не надеется, что твои родные благосклонно отнесутся к Жене. Но они чертовски счастливы. Абрашка умеет быть другом. Вчера мы учили армянско-татарско-еврейский язык. Больше всех смеялся Абрам. Муся, мне хотелось бы, чтоб ты подружилась с Женей.
Ты не сердишься, что Абраша узнал о наших отношениях?
Скажи, моя Звёздочка, не обижаешься ли ты на мои советы, об отношении к родным, о работе, об учении? Ведь есть у нас люди, жёны которых учатся, и любовь их не делается меньше. Да и чем чёрт не шутит, быть может, мне придётся иногда оторваться на полгодика, для шлифовки мозга, работы.
А вместе или близко, моя милая, мы будем скоро. Не могу же я погибнуть на пороге счастья.
Как хочется мне быть вместе! Я немного прихворнул и в бреду видел тебя, выздоровел – снова вижу. Помню всё: глаза, зубы, брови, холодные руки и уколы твоего языка. Почему бы сейчас не быть с тобой? Вот за это счастье-то и придётся ещё раз перенести большой и тяжёлый путь.
Мне хочется сказать своё слово
23.4.44
Спасибо за твою откровенность. Я не так боюсь измены, как боюсь лжи. Хочется исправить. Так что это как раз то, что хочется мне, но выполнить этих советов не могу. Жизнь моя совершенно не располагает к литературному напряжению. Да что сваливать на объективные причины и условия.
Муся, ты, конечно, помнишь, как Павка, потеряв здоровье, решил написать книгу. Я не Павка, но мне хочется сказать своё слово. Если надо, буду учиться, но я это сделаю. Это глупо, самоуверенно, но это, быть может, помогает мне жить, а чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Каждое твоё замечание мне необходимо.
Муся, мне нравится твоя откровенность относительно моего приезда. Неужели ты думаешь, что я приехал бы ради бесполезного дёргания нервов себе, тебе и твоим близким? Ведь я помню, как ты уставала в те дни. А кому это нужно? Я знаю, что ты любишь меня. Добиваюсь того, что нужно, а там…
Может быть, оживёт моя деревянная богиня30. И для этого не надо будет отрывать время, портить нервы, злить родных.
Мучает меня только время.
Если хочешь, свои биографические письма я буду писать распространённей. Ты советуешь придумывать неожиданные, внезапные сочетания. Муся, не сумею.
Положение прежнее.
У Абраши и Жени не был уже несколько дней. Скоро будем далеко друг от друга.
Глава 3—2. Это не что-либо претендующее на литературность
(Письма, представленные в этой главе, написаны до 24.4.44. Они шли независимо от других писем.)31
Это была кухонная любовь к матери
(без даты)
Кухня.
Это не относится к увлечению кухней, но когда-то это доставляло мне удовлетворение творчества.
Милая страдалица-мать. Родившая четырнадцать детей, кормившая шесть человек или, как говорят, ртов. Старшими в доме – сестра и я. Отец сидел в колчаковской тюрьме. Мать приходила домой, утомлённая работой, разбитая неудачами. Мне было больно глядеть на неё. Я знал, что достаточно было мне поцеловать её, погладить – и ей было бы легче. Но я не любил ласкаться. Был угрюм, хотя сердце разрывалось от жалости. Иногда я превозмогал себя и утешал её своими ласками. Чаще я приносил книги и читал вслух. Она страстно любила книги. Эти книги или отрывали её от жизни, которая гнула её к земле, или рисовали жизнь ещё мрачнее её. «Хижина дяди Тома»32, «Камо грядеши»33, «Подлиповцы»34 и «Князь Серебряный»35 и т. п.
Иногда хотелось сделать больше.
Приходя поздно из школы, я видел, как мать возится с горшками, ворча на сестру за грязь. Тогда я обращался к сестре:
– Стюра36, сегодня кино «Сюркуф»37, давай уговорим маму.
Настя шла дипломатом. Мать отмахивалась, но ласки и просьбы брали верх: «Ин пойду». И они с сестрой шли в город в кино. Я уверял, что у меня много уроков. Но лишь только мать и сестра уходили из дома, я быстро ставил два огромных чугуна воды в печь и брался за уборку.
Это не была уборка ради чистоты, это был подарок. Выполнял я его с любовью. Очищал каждый уголок, мыл ту посуду, которая никогда не имела этих привилегий (так как это было обычно в субботу, то создавало праздничное настроение). Расставлял всё в строгом порядке, руководствуясь чувством симметрии. Доставал из сундука чистые занавески, скатерти. Уборке подвергался весь дом.
К моменту прихода матери был готов самовар, на столе стояли чашки, лампа, очищенная до блеска, с чистым стеклом. 4 часа пролетали незаметно. Старался сделать как можно больше и с равнодушным видом садился за стол читать книгу.
Самое приятное было впереди: заходит мать. Я боковым зрением наблюдаю за её изумлением, сохраняя мраморное лицо.
– Озорник ты, Ганюшка!
Тут я не выдерживал, и мы обнимались с мамкой.
Когда у Горького я прочитал про его любовь к уборке самых укромных уголков комнат, мне вспомнились мои «сюрпризы». Ныла спина, болели руки, но сколько было радости.
Двор и сад я всегда приводил в полный порядок.
Это была кухонная любовь к матери. Во всё остальное время я ненавидел эту утомительную работу.
Когда мать была больна, мы с сестрой старались превзойти самих себя в кулинарном искусстве и уборке. На это время между нами прекращались военные действия. (Мы всегда спорили. Во-первых, она была девчонка, во-вторых, она назло мне родилась на четыре года раньше – специально, чтобы командовать мной. Этого я ей не мог простить.)
Мать удивлялась, что я, которого можно было заставить сделать всё, кроме помощи по кухне, проявлял вдруг такой энтузиазм. Но разве есть что-либо трудное, когда любишь человека?
Счастливые года. Как жаль, что ушли вы на кухонные порывы энтузиазма, на полевые работы, доводившие до одури, на борьбу с нищетой, когда мы стояли на грани её; только усилия слабой женщины, молодой девушки и упрямого мальчишки отгоняли её, не давая ей перешагнуть эту грань.
С завистью глядел я на красиво одетых детей, на хорошую обстановку, на красоту и счастье.
Только моя жизнь и положение того времени давали мне возможность увлечься ради уставшей матери.
А чудная у меня мамка. Сегодня получил от неё письмо. Шлю тебе образец этого материнского письма. Когда-то девочкой отец (её будущий муж) научил её тайком читать и писать. Так её грамота и осталась в том же состоянии. Но читать она любила. Много рассказывала нам сказок, пела вятские народные песни.
С родными не живу с 1926 года.
Милая Муся, ты пишешь, что мечтаешь о том чудесном будущем, которое ждёт нас. Только боюсь, не «алые паруса» видишь ли ты. Я не представляю ещё деталей этого будущего, но имею для него твёрдый фундамент: любовь и желание. А остальное будет слагаться из условий и возможностей.
Если Ткаченко даёт детколонию, будет одно, если хозяйство – другое, но храни бог – оперативную работу, тогда я смогу обеспечить тебе только «ловкую горничную». Если ты пожелаешь окончить университет, программа одна, если я буду воевать ещё зиму, вообще программы не будет. Если останусь инвалидом, Гани не будет. Если демобилизуюсь… Но тут я не знаю, что и делать. Еду в Москву к Семёну, и там будет хорошая работка.
А как ты представляешь?
Я знаю, что наша жизнь будет слагаться из простого уюта, любимой захватывающей работы, общей работы, хороших друзей и НАС. С этими данными программа будет хорошей.
Ты спрашиваешь, какая есть латинская пословица, дающая тебе право делать мне любые замечания. Кажется, такая: «Что подобает Музе, не позволено Марии» (на лат.). А Мусе можно всё. Самый сильный мужчина нуждается в хорошем влиянии женщины.
За «жену», написанную в справке, не обижайся. Это – форма. Но:
Мне хочется назвать тебя женойЗа то, что милых так не называют.38Ради всего святого, не посчитай это за право на твою личность. И всегда имей лист белой бумаги, но слать его не торопись. Останься моим огоньком.
Твой шибко умный Ганя
P.S. Так или иначе, но поблагодари Ольгу Семёновну за её отношение к моим письмам.
Целую Галку.
Вот вам мальчик, ловко рисует, учить его надобно
(без даты)
Итак, военком Королёв обнаружил у меня талант художника. Решил везти меня в Омск, в Художественно-техническое училище (очень почтенное заведение). Отец согласился, мать со слезами проводила меня, проболев около месяца.
Мы в пути. Меняем лошадей. Вид Королёва внушителен: маузер №4, серебряная шашка, целая шлея из ремней («он весь увешан был ремнями»). Проехали Семипалатинск, вот Новониколаевск (Новосибирск) – захолустный городок, ещё не исчезли жуткие картины войны и разрухи. Все поля опутаны колючей проволокой, под откосами лежат вагоны эшелонов, мёрзлые трупы, трупы без конца. Навстречу попадаются измождённые, голодные, тифозные люди, почти беззвучно просят хлеба.
Омск. Первое, что бросилось мне в глаза, – взорванный железнодорожный мост. Высокие дома, красивые улицы – и трупы тифозных. Мы остановились в доме знакомого отцу баптиста Волгина…
Наконец мы подходим к великолепному (для меня) зданию ХТУ. Обширные комнаты пусты. В конце коридора, в маленькой комнатке, директор. В нескольких комнатах идут занятия.
– Кто главный? – спрашивает Королёв.
Пожилой, обрюзгший, заросший седой щетиной человек устало поднял глаза. Увидев фигуру Королёва (очевидно, поразившую его своей художественной внушительностью), он вскочил, как на пружинах, кинулся подать ему кресло, проявляя при этом такую подвижность, которой могла позавидовать мышь.
– Вот вам мальчик, ловко рисует, сукин сын, учить его надобно.
– Очень рад (сильнейший немецкий акцент).
– Гаврюшка, покажи рисунки!
Из-за пазухи был извлечён свёрток потрёпанных, мятых бумаг, покрытых мазнёй, которую трудно принять за рисунки. Но Шнель внимательно рассмотрел их, брезгливо отставив пальцы.
– Наше училище принимает учащихся, имеющих ценз образования не ниже гимназии. Ваш сын, наверное, не совсем подготовлен.
– Так выходит, что вы тут буржуйских сынков учите, а наш брат, значит, как копался в земле, так и копаться должен. Так получается?
Шнель, несколько раз переменив цвет лица, уверил, что он не думал отказать, что он займётся с этим «понятливый мальчик».
Так нелепо, в конце первой четверти, я был втиснут в училище.
Боже, какая это была мука! Слабые знания, плохая подготовка и навыки, говор сибирского диалекта в среде гимназистов, учителей, которые открыто проповедовали контрреволюцию, задевая самое больное место моей души. Но свет не без добрых людей. Скоро я сблизился с бедняками-учащимися, ушёл от баптиста, поселился в маленьком домике одного из товарищей. Они учили меня.
Что могли дать мне эти два года? Но они дали многое. Они – эти годы, город, люди, книги и горячие споры молодёжи, среди которых вспыхивали идеи, обжигавшие мозг, вызывавшие желание работать.
Вернувшись на летние каникулы (год 1924), я остался пионервожатым и отдался этому делу всем пылом своей души. По летам я мало отличался от своих питомцев, в прошлом мы вместе галок зорили, жарили сусликов, воровали арбузы, но я многое уже видел и больше их знал. Работу я проводил по-своему: уезжая с ребятами в ночное (пастьба коней), рассказывал о том, что читал, видел и чему верил. 4—5 лет возрастного различия давали мне перевес и авторитет. Девчат я организовать не мог (да и не хотел), но вскоре подружился с дочерью учительницы Фаей Дубининой, более образованной. Мы стали друзьями. Я помог ей вступить в РКСМ, и работа пошла лучше.
Я по-прежнему помогал семье и любил работу, но Фая стыдилась меня и… Я сдался, мне стал казаться зазорным труд и мой незатейливый костюм. Словом, я приблизился к юношескому возрасту.
Продолжение следует.
Нервы у тебя девичьи, а организм медвежий
(без даты)
Фаина Вячеславовна была старше меня на 4 года. Она училась в педтехникуме, и её дружба была очень полезной мне. Организовать детей она не могла, но сумела работу вложить в определённый план и придать ей систему. Вскоре мы имели больше ста пионеров, организовали парк, библиотеку, клуб.
Осенью поступил в Педтехникум. Учение охватило меня. В комсомоле считали меня «отцом» деткомдвижения. Это болезненно льстило моему самолюбию и… приятно кружило голову.
В это же время, под влиянием преподавателя литературы Иванцова, мной овладела страсть к рифмам. Написал несколько приблизительно удачных стихотворений. Даже пробовал писать поэмы «Война» и «Мать». Из «Войны» Иванцов вычеркнул всё, за исключением одного:
Под звуки песни удалойГуляет парень молодой,И крепко спит старик седой,Укрывшись влажною травой…«Мать» была более благосклонно разобрана, но надежд на славу оставалось мало. Начиналась она так:
Когда я начал жизнь ругать,Подавленный тоской,Святое слово – слово «мать» —Я осквернил собой.Тебя, кормилица моя,Похабщиной покрыл,Но тут же вспомнил я тебя…И так строк на восемьсот.
Педтехникум издавал литературно-художественный журнал. Материал я перепечатывал в УО ГПУ39. Познакомился с начальницей ГПУ Ольгой Л. и… влюбился в эту тридцатилетнюю женщину. В ней соединялась женская красота с исключительной силой воли, энергией и обаянием. Я не говорю об её уме, о её змеиной мудрости. Она любила меня как «подающего надежды», учила работать, стаскивала с заоблачных высот, снимала панцирь эрудиции с людей, перед которыми я преклонялся, учила видеть человека там, где его трудно было заметить. Это был умный Мефистофель. Когда меня незаслуженно обидели в РКСМ и я пожаловался ей, она отругала меня за то, что я пришёл ей жаловаться, а не сообщать о том, что я победил.
Первая безнадёжная любовь.
Осенью 1924 года мы с отцом и матерью пришли домой с клубной постановки, где я играл бородатого крестьянина. Моя великолепная борода была «намертво» приклеена столярным клеем. В ожидании ужина и самовара (горячая вода для туалета) мы с отцом просматривали газеты. Вдруг раздался оглушительный выстрел. Я погасил лампу, опасаясь повторного выстрела. Отец был ранен. Пуля пробила бицепс правой руки, скользнула по брюшному прессу и пробила мышцы левой ноги. Можно было ожидать поджога. Я, взяв свой браунинг, вылез через пол сеней и созвал коммунистов села, а сам поехал верхом в ГПУ. Рогачёв меня не узнал. Наконец с отрядом и доктором мы вернулись домой. Стрелявший Ч. скрылся. Отцу было предложено переехать в другой город, но он отказался: «Что, бежать?!».
В этом году умер Ленин.
Смогу ли я описать всё, связанное со смертью Ленина: слёзы никогда не плакавших людей, радость тех, кто прятался от жизни и революционного сквозняка…
Жизнь втягивала меня в свой водоворот и несла так стремительно, что я не мог разобраться в людях, событиях и идеях. Ольга Л. старалась указать мне жизненные ориентиры. Книги и некоторые друзья тянули в небеса, жизнь и чувства будили ненависть к людям. Работа требовала любви к человеку, терпения к его недостаткам, считая их объектом для изжития. Я метался от Фейербаха к Ницше, от Ренана к Толстому и уходил к Э. Реклю, Фламмариону, Флоберу и книгам наших «старичков». Иногда бросал всё и уходил в тайгу на охоту.
Я жил в каком-то тумане книг, идей, горячих споров.
Весной я заболел сильной формой нервного расстройства. Семья переезжала в Оренбург (усилилось преследование отца). Книги мне были запрещены. Я большую часть времени проводил с детьми детдома: прогулки, рыбалки, костры и традиционная пионерская картошка.
В июле комсомольская ячейка провожала меня. Мы провели чудный вечер на большой скале около пристани. Пашка Голуб шутил, предсказывая мне столичную карьеру (Оренбург был центром Киркрая40), Зойка Фёдорова запевала песни, Фаина объяснялась в любви, Ольга Л. приехала верхом проститься со мной. Мне жаль было её, прекрасную амазонку, и я боялся, что без неё запутаюсь окончательно.
Сурово на прощанье посоветовала мне:
– Нервы у тебя девичьи, а организм медвежий. Плохо это, Ганька. Молод ты, а баба тебе нужна. Мне бы надо тебя пожалеть. Другая-то тебя соплями заманит, а ты, дурень, ещё рад будешь, мол, блеску много. Но ты не торопись с этим делом. Найди себе не «нашу» бабу, а такую, чтоб она вся для тебя желанная была.
Много она наговорила. Я сказал ей, что любил её.
– Знаю. Потому и держала около себя. От меня ты к другой не пошёл бы, а беречь тебя надо было. Ведь ты всему отдаёшься целиком, нет у тебя половинки.
В 12 часов отходил пароход.
Проходили скалы и горы, Иртыш показывал свою красоту в последний раз.
Оренбург…
Встал на учёт в райкоме. Встретили холодно – «из Назарета может ли быть хорошее?». Платил членские взносы, посещал собрания, но держался в стороне. Работал с отцом столяром. Здоровье восстановилось, заработки были неплохие. Вечера проводил в читальне.
Однажды ко мне подсела работница читальни Гостева.
– Кем вы работаете?
– А там, в абонементной карточке указано.
– Во-первых, так невежливо, а во-вторых, я боюсь за вашу систему читать книги.
Как она втянула меня в разговор?.. Но мы сделались друзьями. С ней я делился впечатлениями, она меня познакомила с А. С. Белениновым.
Незаметненький старичок с вечно молодой душой, он стал мне другом и учителем.
Когда он прослушал мою «Мать» (биографическая вещь), он спросил:
– Сколько вам лет? Пятнадцать. Великолепно. Пишите. И вот вам моя рука – из вас будет неплохой журналист. (Утешил!) Тут же он безжалостно разбил мою «Мать» на мелкие части, которые оказались хламом, собранным в нелепую систему, и заставил рассказать устно мысль.
Нечаянно слава (популярность местного масштаба, которую я принял за славу) озарила меня.
Я работал уже воспитателем и вожатым детколонии, вошёл в члены бюро райкома.
Был 1927 год. Безработица, НЭП, есенинщина.