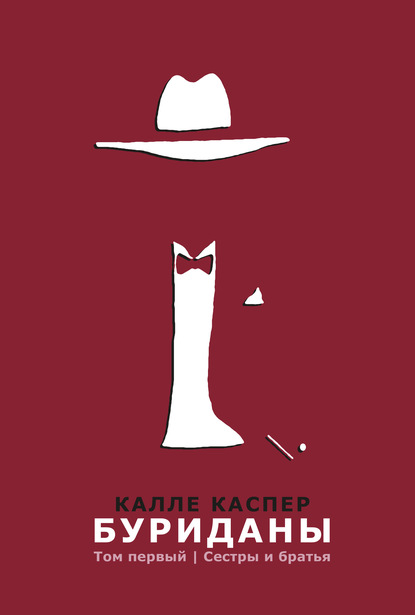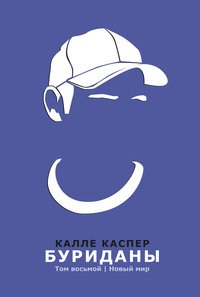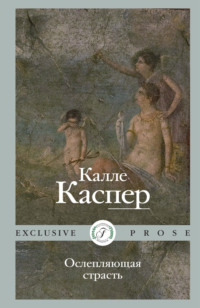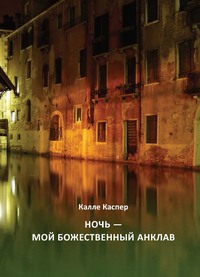Полная версия
Буриданы. Алекс и Марта
Потом настало время уложить детей спать, с другими проблем не возникло, но Лидия была нервная, не заснула прежде, чем ты сама не пошла и не спела ей вместо колыбельной: «Una furtiva lagrima…» Когда ты вернулась в гостиную, Менг и Вертц как раз собирались уходить, ты попрощалась с ними, Алекс пошел их провожать, а ты стала убирать со стола. И вдруг – звонок в дверь. Это был Вертц, он забыл свой портфель – возможно, как ты потом подумала, нарочно. Вертц снял шапку – Вертц как Вертц, лысеющий череп, густые светлые брови, овальное лицо, круглые очки и стеснительная улыбка. Ты принесла ему из комнаты портфель, он схватил его, но не ушел. «Госпожа Марта», – сказал он вдруг, – «а ведь я вас люблю». Ты не знала, что сказать или сделать, он положил портфель на пол, взял твои руки и стал целовать их, сначала кисти, потом, по очереди, все пальцы, в конце пытался поцеловать тебя и в губы, но этого ты не позволила…
Когда Алекс через полчаса вернулся, ты прятала от него взгляд. Он сразу разделся, нырнул в постель и заснул, а ты еще долго лежала без сна – как в юности, когда ты иногда до рассвета ворочалась, мечтая… Да, о чем же ты мечтала, Марта? Наверно, о блаженстве любви, о чем же еще. Кто из нас не грезит этим в восемнадцать лет? Но есть ли кто-нибудь, кто видел его воочью? В какой-то момент казалось, что ты видишь – но потом выяснилось, что это не блаженство, а лишь тень его. Потом исчезла и тень, и ты снова оказалась одна.
С этого вечера ты стала ждать очередного визита варягов, возбуждалась, когда слышала, что киевский поезд опаздывает, душилась сильнее, чем обычно, долго выбирала, что надеть. Алекс ничего не заметил – мужчины в этом смысле, словно дети, они убеждены, что они – пуп земли, жена же подобна, скорее, мягкому дивану, на котором приятно поваляться, но который собственных желаний не имеет, разве только иногда выказывает потребность освежиться, приобретя новый наряд или сходив в театр, и раз в году – пройдя легкий ремонт на морском курорте. А было ли тебе что скрывать от мужа? Вы больше ни разу не оставались с Вертцем с глазу на глаз, даже на десять секунд, ты сама старалась, чтобы этого не случилось, боялась. Но и это не помогло – и однажды ты обнаружила пятно. Пройдет, подумала ты – но нет, пятно стало расти и расти, и в конце концов ты поняла – это на всю оставшуюся жизнь. Ибо где взять скипидара в количестве, достаточном, чтобы его вывести? Обобрать весь земной шар, все равно не хватило бы. Неужели нет любви без обмана? Твой опыт говорит, что нет, обман – это естественная составляющая любви. Нет обмана, нет и любви. А пятно – оно и должно расти, ведь жизнь – не родниковая вода, она пачкает, и если на тебе нет ни единого пятнышка, значит – ты не жил.
Глава пятая
Частное лицо
Император никак не мог привыкнуть к мысли, что он уже не император. В первые минуты новая ситуация ему даже нравилась, приятно было осознавать, что груз решений спал с плеч, и теперь за все должны отвечать другие. Сколько лет они ждали, когда он отдаст власть – пожалуйста, берите, час настал! Пусть попробуют, поймут, что все не так просто. Править государством это тебе не автомобиль водить, с чем справлялся даже граф Орлов – но дай Орлову под начало страну, и что он с ней будет делать? Для того, чтобы править, надо, в первую очередь, иметь авторитет, а у кого в России он таков, чтобы ему повиновались все: министры и генералы, священники и дворяне. И народ. Миллионы крестьян, для которых он, император, был продолжением бога на земле. Станет ли православный земледелец выполнять приказы какого-то адвокатишки?
Так что вначале он почувствовал только облегчение – пожалуйста, господа Гучков и Шульгин, вот вам моя подпись, ступайте и сообщите, что ваша миссия выполнена. Гучков, заметьте, принял бумагу с видом, весьма довольным, но лицо Шульгина скривилось в судороге. Как Шульгин вообще пошел на такое грязное дело, неужели не подумал, в каком качестве он войдет в историю? Раньше он был одним из самых честных людей, настоящий русский, для которого земля не рудник или иное средство обогащения, а святыня. Шульгин был одним из немногих, кто осмелился публично заявить, что в России у евреев не должно быть права голоса, пусть убираются в Палестину, коли желают. А не желаете, господа, извольте сидеть в Бердичеве и шить сюртуки. Но, наверно, и Шульгину власть ударила в голову, вот что делает известность с людьми, не было бы Думы, вряд ли он повел бы себя подобным образом. Однако здесь, в последнюю секунду, как будто все-таки что-то понял, иначе почему эта судорога? Может, он вовсе не верил, что император откажется от трона? Подумал про себя, что поедет вместе с другими, потом будет рассказывать, как он увещевал императора позаботиться о благе народном, но тот не послушался. Если так, то рассчитал он неверно – ибо император за власть никогда не держался, для него она была только бременем. Если бы не Аликс, возможно, он уже давно освободил бы трон, это жена в каждую подходящую и неподходящую минуту напоминала ему о его ответственности за Россию; но теперь и Аликс махнула на все рукой, убийство Распутина глубоко ее оскорбило. «Они сделали это нарочно, они знали, что Брат – единственный, кто мог лечить наследника! Убив Брата, они убили и нас с тобой!» – кричала она. А потом холодно добавила: «У меня нет с этими людьми более ничего общего. Если хочешь, отдай власть им, пусть на своей шкуре почувствуют, что это такое».
Вот тогда император и решил, что силой он скипетр далее удерживать не будет. Не хотят его, не надо, он тоже человек и до сих пор почти что и не жил. Проснуться утром одолеваемым мыслями, что будет со страной, и ложиться вечером с той же заботой, разве это можно назвать жизнью? Теперь все будет иначе, пусть беспокоятся те, кто хотел его свергнуть, он же будет просто дышать, гулять, играть с детьми, когда-нибудь, возможно, отправится путешествовать, не как глава государства, а как частное лицо, без идиотских духовых оркестров и почетных караулов, без долгих и скучных речей и трудных переговоров, ознакомится с достопримечательностями земного шара, возьмет и съездит, скажем, в Египет. Дочерям разумно выберет мужей, тогда ведь не надо будет уже думать о династических проблемах, они смогут выйти замуж за рядовых, но достойных дворян. И сын, когда выздоровеет, а он наверняка выздоровеет, если родителям не надо будет без конца нервничать, и они окружат его покоем и радостью, сын может жениться хоть на балерине, он позволит! Он тоже когда-то мечтал заполучить Матильду в жены, и если б не данная богом судьба и связанные с нею обязательства, кто знает, может так все и пошло бы, и он был бы просто обычным счастливым человеком.
Естественно, с Аликс ему повезло – но ведь могло и не повезти. И даже эту совершенную любовь злопыхатели сумели испортить: ибо разве была она ныне той женщиной, на которой он женился? Увы, та Аликс была живой, бойкой, умной девушкой, теперешняя же усталой, издерганной… нет, конечно, не старухой, но и не молодой. Разве его жена настолько изменилась бы, если б им не пришлось выносить нескончаемую ненависть, интриги, злобу? Наверняка нет, и была бы Аликс сейчас цветущей и здоровой, и они могли бы оптимистично смотреть в будущее, им ведь не так уж много лет. Кстати, и сейчас не поздно. Как только наступит весна, они сразу поедут в Крым в Ливадию, если ту им оставят, а если не оставят, найдут другое пристанище, они – люди малотребовательные, могут переночевать и в гостинице «Палас», будут гулять, купаться, дышать морским воздухом, укреплять здоровье; год, другой спокойной жизни, и все будет хорошо, все наладится…
Так он мечтал в тряском поезде на пути от Гдова к Петербургу, но дальше все пошло не так. Он сделал одну ошибку: он полагал, что другие люди такие же, как он, то есть великодушные, благородные и хорошо воспитанные. Выяснилось, что он ошибся: они были жестокими хамами. Казалось весьма естественным, что ему оставят если не все его имущество, то по крайней мере такую часть, которая позволила бы его семье жить соответственно положению, подумали бы хотя бы о том, сколько он сделал для блага родины; но с ним даже не стали вести переговоров на сей счет, более того, сразу по прибытии в Царское Село ему сообщили: вы арестованы. Создалось впечатление, что ему не собираются давать возможности самому определять свое будущее. Это бесило императора: он ведь не преступник, которого следовало держать под замком, если уж он отказался от трона, значит, отказался, он же не будет брать назад однажды данное слово и поэтому не представляет ни для кого ни малейшей опасности – они сами по себе, а он с женой с детьми и слугами сам по себе. Ладно, он готов был допустить, что имущество ему оставят не все, но чтобы решить этот вопрос цивилизованно, кто-нибудь должен был прийти к нему, дабы составить совместно какое-то соглашение; однако ничего такого не произошло.
Он пытался приспособиться к неопределенности своего положения, в конце концов можно было жить и находясь под арестом; много времени проводил на свежем воздухе, часто и с удовольствием работал руками, вначале убирал снег, а когда наступила весна, вскопал грядку и посадил овощи – но беспокойство не исчезало. Попросил, ему принесли семена, на мешках значилось имя купца – Буридан, ему показалось, что это перст судьбы, помечавший его ошибки: разве и он не вел себя, как буриданов осел, который никак не мог выбрать между Вилли и французами, Треповым и Витте, Николашей – когда встал вопрос о главнокомандующем, и самим собой. Конечно, какое-то решение он в конце концов принимал, но всякий раз слишком поздно, когда был упущен правильный момент объявить чрезвычайное положение или отменить договор об Антанте или со славой пасть в бою вместо того, чтобы быть зарезанным, как овца. Да, чем дальше, тем больше он стал думать, что ему не дадут даже возможности умереть естественной смертью. Бунтовщикам все было мало, он отрекся от трона – мало, не предъявлял твердых требований относительно безопасности – мало, не претендовал на Петергоф – мало. Ненависть не рассеялась, наоборот, она все время росла. Вот тогда он и решил, что, раз от него так стремятся избавиться, он покинет родину. Когда у него в первый раз спросили, не хочет ли он уехать, он, разумеется, отказался, его возмутило уже то, что кто-то собирается ему диктовать, как жить дальше, но теперь передумал, ладно, отправимся в эмиграцию, к Джорджу. И вдруг выяснилось, что это отнюдь не так просто: Джордж воспротивился, сказал, что не может принять кузена. Чего боялся? Революции? Конечно, он всегда знал, что английские родственники – шкурники, но что до такой степени…
Потом ему сообщили, что положение в государстве тревожное, в Царском Селе гарантировать его безопасность уже невозможно, и его с семьей переведут в Тобольск. Что поспешно составленное правительство адвокатов не справляется с поддержанием порядка, его не удивило, но что они окажутся такими беспомощными… Больше всего императора раздражала конечная точка путешествия, та самая, куда раньше отправляли государственных преступников. Наверно, ее выбрали специально, чтобы его унизить. Он хотел запротестовать, позвать Фредерикса, Мосолова, все равно кого и сказать – хватит шуток, эти ребята перебрали, надо их немножко проучить, но единственным, кого он еще мог вызвать, был доктор Боткин… Когда это дошло до его сознания, он всю ночь не мог уснуть. Он почувствовал, что попал в ловушку. Он оказался заключенным на собственной родине. И кончится ли все этим? Еще полгода назад от него зависело если не все, то многое, а сейчас не зависело уже ничего, даже собственная жизнь. И только ли собственная? Он с ужасом смотрел на Аликс, на дочерей, на наследника, который, в действительности, уже был не наследником, а обычным мальчиком Алешей с красивыми темными глазами и слабым здоровьем – что с ними будет? Не грозит ли им погибель?
И когда эта мысль впервые промелькнула в его голове, он почувствовал, как покрывается холодным потом, как его сознанием овладевает один-единственный отчаянный вопрос: почему я это сделал? Почему добровольно отдал власть?!
Часть вторая
Пауль
Год 1980
Глава первая
Море (продолжение)
Залив был полон яхт, зрелище вроде бы довольно красочное, и все же Пауль почувствовал, что оно оставляет его равнодушным. Потому ли, что он вообще не любил спорт? Конечно, это не футбол, о котором он отзывался всегда одной и той же фразой: «Почему двадцать два взрослых мужика должны гнаться за одним-единственным мячом, разве нельзя каждому дать свой?» Правда, и хождение под парусами стало очередным способом развлечься, утратив давнишнее романтическое очарование, все континенты и даже острова были давно открыты, экзотические товары возили на больших сухогрузах или самолетах, да и дикие племена уже никто не покорял, наоборот, перед ними заискивали и продавали им оружие – и все-таки развлечение это было для мужественных людей. Что же мне мешает, подумал Пауль и, наконец, понял – то, что он видел, слишком напоминало первомайскую демонстрацию. Если бы по заливу скользила одна яхта, он с удовольствием поднял бы камеру и стал искать интересный план, но массовость убивала красоту – массовость и хаотичность, ведь в кордебалете, например, тоже много танцовщиц, но двигаются они по очень строгому рисунку.
Пауль бросил последний беспомощный взгляд на залив. Да, снимать тут было нечего – но снимать приходилось. Он посмотрел направо, в сторону услужливо ждущего указаний ассистента – у парня сегодня день рождения…
– Хочешь попробовать?
Глаза ассистента загорелись, он был еще в возрасте, когда удовольствие приносит сам процесс, все равно, что снимаешь, главное, чтобы камера журчала.
– Только смотри, не урони, отвечаешь головой.
Парень старательно кивал, на самом деле, он был достаточно аккуратен, Пауль и раньше доверял ему камеру.
– Я отойду на полчасика, встретимся у автобуса.
Протолкавшись через толпу тренеров, судей и прочих подобных деятелей, Пауль вышел к парковке. «Латвия» стояла там, где и должна была стоять, шофер слушал по радио олимпийскую студию. Это было подобно массовому психозу – всем надо было непременно знать, на сколько метров прыгнет тень Роберта Бимона, и победит ли сборная Конго по футболу сборную Уганды – да победит, куда денется, раз уж Иди Амин съел половину своей сборной…
– Пойду прогуляюсь. Если парень вернется раньше меня, пусть подождет.
Шофер даже не кивнул, все его внимание было сосредоточено на репортаже; Пауль взял фотоаппарат, убедился, что несколько кадров еще осталось, и направился к сосновому лесу. Имей он чуть больше времени, мог бы побродить около реки, там попадались любопытные овраги, но в ЦК опаздывать не стоило. И так сегодня его наградил злобным взглядом главный редактор, поскольку он вошел в кабинет, когда собрание уже началось – по дороге на работу сделал остановку в Кадриорге, чтобы поснимать лебедей, и забыл о времени.
Сосны были посажены равномерно, между тоненькими стволами просматривалось море; некоторые предпосылки для нестереотипных кадров имелись, но только некоторые, такую, или почти такую природу снимали тысячи раз, лучше всех это сделал, как всегда, Кутар. Конечно, первобытный лес на Средиземном море предоставлял больше возможностей, однако бездарь испортил бы и ту красоту – но Кутар был не бездарем, а мастером, возможно, крупнейшим в истории кинематографа. Правда, Юсов и Рерберг тоже были хорошими операторами, и Урусевский, естественно, но Кутар все-таки затмил всех. Его планы были как полотна, он умел избегать симметрии, всегда находил любопытный ракурс. Хотя бы в том фильме, на Средиземном, где ему пришло в голову поставить Анну Карину на фон огромных хвойных деревьев и моря так, что была видна только ее макушка; один из самых оригинальных кадров в искусстве кино.
Дойдя до здания пляжного центра, Пауль надел темные очки и проверил нагрудный карман – конфеты были и даже не очень липкие. На самом деле, девушки и так были словно помешаны на съемках, они с радостью сами закормили бы Пауля шоколадом, лишь бы их взяли в модели – но сначала следовало завести разговор, и вот тут очень кстати оказывались конфеты, апробированное средство, которым Пауль пользовался десятки раз. В чем секрет, он так и не понял, может, этот маленький жест демонстрировал всего лишь то, что ты не скряга; таких девушки не жаловали, и поделом.
Ступив на платформу перед пляжным центром, он остановился, закурил и обвел деланно равнодушным взглядом простиравшиеся перед ним бледно-желтые пески. Да, Анны Карины тут видно не было, не говоря уж о Монике Витти. Нельзя сказать, что хорошо сложенных девушек не было вовсе – но настоящее женское обаяние это все-таки нечто большее. Некоторые его коллеги снимали натурщиц, как неодушевленные объекты, порой без лица – только плечи, торс или бюст; можно было и так, особенно, если поиграть со светотенью, но Пауля это не интересовало, он искал модель, которая уже издали отличалась бы от остальных; и вот тут и возникали проблемы, большинство девушек были очень уж похожи друг на друга, по крайней мере, внутренне. Вот и приходилось нередко ограничиваться натюрмортами и пейзажами – но даже самый роскошный вид с горными вершинами не может по красоте соперничать с женщиной, это понимали уже старые мастера, не Кутар даже, а еще более старые, Боттичелли, например.
Он уже собирался разочарованно уйти, когда заметил Пээтера. Приобретший некоторую известность родственник выходил из воды, ступая вперевалку, как всегда и везде – медлительный, тяжеловесный и неуклюжий. Кто мог бы подумать, что человек с такими простодушным взглядом может сочинять романы – но он сочинял, и их как будто и читали, по крайней мере, читали критики, или, если даже не читали, то хотя бы хвалили. Логичнее, кстати, что не читали – ибо, если бы читали, разве хвалили бы? Пауль, во всяком случае, ознакомившись с очередным опусом двоюродного брата, пожимал плечами – с жизнью, которая их окружала, писания Пээтера, как правило, не имели ничего общего. А зачем нужны книги, если они не говорят об окружающей жизни? Писать такие почти так же бессмысленно, как гнаться за мячом.
Особенно Пауля удивило, что однажды он Пээтера сегодня уже видел – Таллин, конечно, не Москва, но и здесь можно прожить полжизни, встречаясь с родственниками только на днях рождения, а тут – что не час, то встреча. В первый раз Пауль заметил двоюродного брата в полдень, выходя из студии, Пээтер тогда с каким-то очень глупым видом стоял перед домом писателей с большой спортивной сумкой в руках и глядел пустым взглядом вокруг. Конечно, он мог просто кого-то поджидать, он все-таки жил в том самом доме и мог договориться с кем-то о встрече там – но что-то подсказало Паулю, что у двоюродного брата неприятности. Он даже хотел подойти и спросить, в чем дело, но едва он пришел к этой мысли, как Пээтер обернулся и вошел в книжный магазин, и туда Пауль уже идти не стал, импульс угас, да и времени не было.
Сейчас Пээтер вытащил из полиэтиленового мешка полотенце и стал вытираться; это он тоже проделывал медленно да еще с удовольствием – в отличие от Пауля, который стеснялся своего хилого тела и вообще ненавидел все физическое. Их отделяло метров двадцать, слишком большое расстояние, чтобы окликнуть; правда, можно было спуститься с платформы и подойти ближе, но тогда пришлось бы снять сандалии. Пауль, хоть и не был Лоодером, как Пээтер, но лишних телодвижений избегал и он – да и обрадуется ли вообще Пээтер, увидев его? Внутренний голос подсказывал, что вряд ли – двоюродный брат попал под влияние жены, а та относилась к Паулю, мягко говоря, осторожно. С первой женой Пээтера, с Майре, Пауль ладил неплохо, та была веселая веснушчатая деревенская девушка, небольшого роста, похожая на гриб, с круглым вечно улыбающимся лицом; почему Пээтер с ней развелся, Пауль не знал, ему, в любом случае, Майре было жалко – ладно, она не из такой интеллигентной семьи, как Пээтер, и что с того? Разве мало простых женщин, которые умеют быть верными женами – может, только простые и умеют. Но Пээтеру нужна была спутница поинтеллектуальнее, и он попал в лапы Маргот. Маргот была совсем другой породы, вежливая, но замкнутая. Что она, улыбаясь тебе, о тебе думала, понять было невозможно, но явно ничего хорошего, почему иначе Пээтер стал его, Пауля, сторониться? Может, причиной был папа Густав? Может, но идти выяснять – глупо.
Да, странное чувство быть сыном человека, которого столько людей в душе ненавидит. За что? Разве отец был виноват в преступлениях Сталина? И все-таки Пауль с детства ощущал на себе недоброжелательные взгляды – ага, тот самый Кордес, чей папаша стоял на балконе российского посольства рядом со Ждановым…
Ну и что с того, подумал Пауль упрямой гордостью. Стесняться тут нечего, отец никого не убивал и не депортировал, он даже не подписал ни одного соответствующего документа. Да, у него были идеалы, он за них пострадал, и не его вина, что эти идеалы присвоили подлецы и осквернили их. Когда это случилось, отец делал, что мог, помогал тем, кому можно было помочь и кто были этого достоин – должен ли он был сочувствовать и тем, кто его самого много лет держал в тюремной камере? На этот счет можно было подискутировать; впрочем, не исключено, что отец сочувствовал и им – точнее об этом Пауль ничего сказать не мог, потому что ему было всего лишь четыре года, когда отец умер, помнил он его только в гробу, вот это действительно врезалось в память, глаза отца были закрыты, и, может, поэтому его густые седые брови казались как-то особенно строгими, такие же седые кудри были аккуратно причесаны, а гордое, в каком-то смысле аристократичное лицо с греческим носом и высоким лбом глядело удивительно спокойно, словно отец хотел сказать оставшимся: я сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше. Паулю от отца достался пистолет, он был убежден, что отец никогда не позволил бы себе бесчестного поведения, скорее бы застрелился, и он собирался быть достойным отца.
Пээтер между тем кончил вытираться и исчез в кабинке для переодевания. Когда он оттуда вышел, он выглядел весьма комично – из шорт торчали голые волосатые ноги. Пауль никогда бы в таком виде на улицу не вышел, он всегда носил отутюженные брюки, но, в конце концов, какое ему дело, если родственник хочет поддержать теорию Дарвина, подумал он, пожимая плечами, и уже собирался уйти, когда его внимание привлекло маленькое происшествие – недалеко от Пээтера вскочила с разостланного на песке полотенца какая-то девушка, подбежала к двоюродному брату и завела с ним разговор. У девушки были короткие светлые волосы и спортивное, эластичное тело, и Пауль мог поспорить, что она русская – эстонские девушки были менее эмоциональны. Пээтер сперва казался удивленным, но потом довольно заулыбался, наверно, ему делали комплименты. Беседа становилась все оживленней, наконец, Пээтер начал шарить в нагрудном кармане летной рубашки и вытащил оттуда шариковую ручку. Просят автограф, догадался Пауль. Однако, как Пауль понял из дальнейшей жестикуляции, у девицы не нашлось ничего, на чем можно было этот автограф запечатлеть, Пээтер тоже порылся в своем полиэтиленовом мешке, но, видимо, безрезультатно. Выход из затруднительного положения оказался неожиданным, Пеетер и девушка о чем-то заговорщически озираясь, договорились, девушка побежала к своим вещам, натянула платье, распрощалась с подругами и, все еще без умолку болтая, зашагала рядом с Пээтером по песку в сторону пляжного центра.
Пауль чисто машинально вынул фотоаппарат и направил объектив на веселую парочку. Щелчок, другой, третий, четвертый – точно, как у Антониони – затем он отошел в тень здания, спрятал аппарат обратно в футляр и ушел, улыбаясь – сценка, в которой он сейчас принял участие, служила молчаливым доказательством того, что его отец прожил жизнь не зря, ибо здесь, в государстве, в создании которого участвовал его отец, Пээтеру вряд ли грозила опасность быть застреленным из-за куста.
Глава вторая
Студия
В стеклянной будке сидела новая сторожиха, которая не хотела пропускать Пауля – пришлось показать рабочее удостоверение. Отправив ассистента наверх отнести камеру и отдать пленку на проявку, Пауль свернул в боковой коридор, прошел его до конца и спустился по лестнице в подвал, где находился бар студии. Голоден он не был, но ужасно хотелось кофе, в ЦК их поили только минеральной водой. Вообще, времени там было затрачено больше, чем надо, режиссерша усаживала секретаря по идеологии то так, то эдак, искала наилучший план. Паулю ее старания были не очень понятны, все равно ведь, какой бы стороной ты партийного работника к камере не повернул, он от этого не поумнеет; но вмешиваться он не стал – пусть режиссерша подлизывается, если хочет. Сам он с наибольшим удовольствием остался бы незамеченным, но руководительница отделом, с которой они учились вместе, узнала его, радостно поприветствовала и представила секретарю:
– Познакомься, это сын Густава Кордеса.