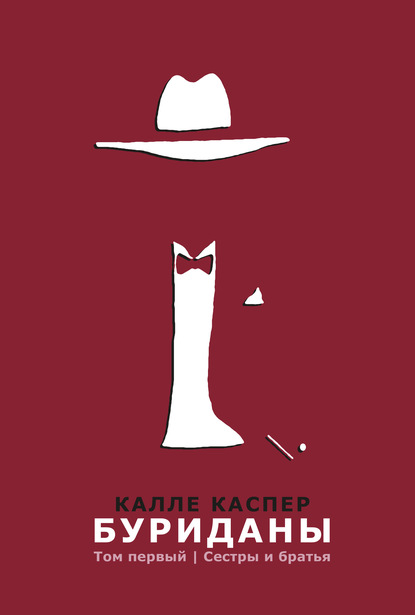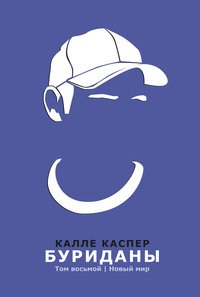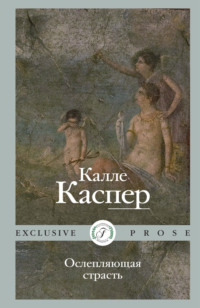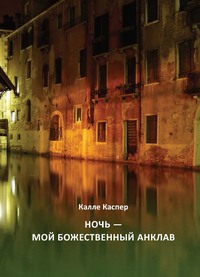Полная версия
Буриданы. Алекс и Марта
Вот зайти в банк «кавалер двух месяцев» уже не успел.
– Завтра утром, перед тем, как прийти на работу, проверь, пришел ли перевод.
Уезжая из Ростова, Алекс не закрыл тамошнего магазина, Цицин вполне справлялся с делами, но недавно юноша сообщил, что хочет поехать в Харьков учиться сельскому хозяйству, и у Алекса не осталось выбора, пришлось магазин продать.
Он «помассировал» пресс-папье последний лист, вложил его в кожаную папку, а папку – в портфель. Можно было, конечно, отправить статью с Августом, но он хотел сам зайти в редакцию и поговорить с Тихомировым – не то, чтобы в этом была большая нужда, а просто, чтобы не дать угаснуть возникшему пару лет назад знакомству; задней мыслью Алекса было самому основать сельскохозяйственный журнал, и подобный человек подошел бы на должность главного редактора.
Приказав Августу не закрывать контору до конца рабочего дня (чего тот наверняка делать не станет, хотя бы четверть часа для себя урвет), он надел соломенную шляпу, взял портфель и вышел.
На улице было спокойно, только мостовая сплошь в осколках от битых бутылок, наверно, погромщики достали запрещенную водку и глотнули для храбрости. Перед домом-пагодой обосновались инвалиды, одному, безногому, Алекс бросил в шапку пару монет, это было словно взяткой, которую он давал судьбе, чтобы та не тронула его семью. Опять он подумал об идиотизме происходящего; война вообще дело сомнительное, но война с немцами? Это почти как война с самим собой. Неужели они оба, и Николай, и Вильгельм, не понимали, что это значит для людей, которые окажутся словно меж двух огней? Немцам, живущим в России, надо было теперь быть «большими католиками, чем сам папа», особенно рьяно доказывать свою верноподданность – и даже это не помогало. Разве не стали сразу после краха в болотах Мазурии говорить, что Ренненкампф – предатель? Чего же удивляться, если сейчас подозревают уже царицу. А как Марта страдала из-за того, что унижают все немецкое, издеваются над Гете и Шиллером. И, конечно, постоянный страх из-за детей, правда, они как будто немцами не были, но, тем не менее, ходили в немецкую школу. К счастью, оба, и Герман, и София, были толковыми, и для них не составило труда, когда запретили преподавание на немецком, перейти на русский – но к чему все эти перемены, вызывающие путаницу в детских головах? Больше всего Алекса сердило то, что чисто математически и сам Николай был немцем, в его жилах текла, как высчитал Менг, занимавшийся в свободное время королевскими родословными, всего лишь одна двести пятьдесят шестая часть русской крови – и броситься с таким происхождением на защиту славян? Чего хорошего эти сербы ему сделали, только постоянно выпрашивали кредиты, и не думая возвращать долги…
– Алекс!
Приглушенный голос за спиной прозвучал если не угрожающе, то, по крайней мере, предупреждающе – старые приятели так не окликают; и все же голос был знакомым, и Алекс осторожно обернулся, пытаясь угадать, кому же он принадлежит. Одного взгляда оказалось достаточно – Хуго за десять лет, естественно, постарел, отрастил усы и козлиную бороду, но был вполне узнаваем.
– Вот так сюрприз!
Да, было более чем удивительно встретить шурина здесь, в Москве, – все считали, что он шагает по булыжникам какого-то европейского города.
– Говори тише. И вообще, не надо нам стоять, как паре столбов.
Взгляд за очками Хуго бегал, стало быть, находился он здесь, скорее всего, не совсем законно. Наверно, тайно перешел границу – только как, в военное-то время? Хотя, разве мало возможностей, русская граница длинна и дырява, как сеть, так ли трудно проскользнуть через нее, хотя бы со стороны Китая, если прочие пути закрыты.
– И куда же мы пойдем?
– Для начала просто прогуляемся.
Да, назвать это встречей родственников было трудно, скорее, происходящее напомнило Алексу конспиративное рандеву подпольщиков. Но ведь Хуго и был подпольщиком – социалист, революционер… Такие, как он, и заварили в 1905-м ту кашу, которую Витте со Столыпином пришлось расхлебывать. Из ссылки Хуго удалось бежать, родители и Марта долгое время ничего не знали о его судьбе, пока, наконец, не пришли одна за другой две открытки, одна из Парижа, другая из Рима, подписанные вымышленным именем.
– Марта дома?
– Марта поехала в Ростов, у твоего отца случился удар.
– Удар?
– Да, апоплексический.
– А дети?
– Детей она взяла с собой, оттуда они поедут прямо в Крым.
Хуго помолчал, наверно, переваривал услышанное.
– Ну, может, оно и к лучшему, – сказал он наконец.
Алекс чуть не фыркнул от гнева.
– Что лучше – что у отца удар? – спросил он резко.
– Что Марты нет. Поехать повидать отца я все равно не могу, в Ростове меня знает каждый паршивый пристав.
Алекс бросил еще один взгляд на усы и бороду шурина – верно, всего лица они не скрывали. Высокий лоб, выступающие скулы и большой нос – фирменный знак Беккеров, были открыты для обозрения, да и очки помогли бы опознанию, без них Хуго не мог даже двух шагов сделать.
– Тут ты прав, – согласился он. – И все же, что хорошего в том, что Марты нет дома?
– Мне нужен ночлег. Когда все дома, опаснее, дети могут разболтать…
Вон оно что… Кстати, возможно, Хуго был в чем-то прав, только в ином смысле – если он попадется, жандармы не смогут ни в чем обвинить Марту.
– Не бойся, я только на одну ночь, – продолжил Хуго необычным для себя умоляющим тоном, наверно, по-своему истолковывая молчание Алекса. – Завтра поеду дальше в Петербург. – Именно так он и сказал – Петербург, а не Петроград, но Алекс не стал на это ему указывать, большинство людей продолжало говорить по-старому, так что опасности это представлять не должно было.
Он не стал спрашивать – а почему родственник уже сегодня не может поехать «дальше», но тот объяснил сам:
– Я бы не стал задерживаться, но у меня завтра утром тут важная встреча.
– Насчет ночлега не беспокойся.
Визит к Тихомирову пришлось отменить, но особой спешки с этим и не было – и Алекс стал оглядываться, не видно ли извозчика.
Дуня воспользовалась случаем, что у хозяина гость, и после обеда ушла к жениху, даже не помыла посуду – связь их относилась к числу «безнравственных», но делать было нечего, в женихи Дуня избрала мусульманина, и обвенчаться парочка не могла, татарин не соглашался сменить религию, Дуне же Святейший Синод не разрешил отказаться от православия, вот если бы она хотела перейти в протестантизм, тогда пожалуйста, а в ислам – нет.
– Девица не разболтает?
– Привыкла. У нас часто бывают гости.
Они пили чай; разговор не клеился. Отношения между ними всегда были натянутыми, вернее, отношений как таковых не было вовсе. Сколько раз они друг с другом встречались? Не больше пяти или шести и почти всегда в присутствии Марты. Только однажды, когда Марта заболела, и Алекс пошел без нее, с Германом и Софией, на рожденственную елку к Беккерам, они с Хуго завели серьезный разговор, и, конечно же, сразу поспорили. Больше они не виделись, а после событий пятого года шурина и вовсе арестовали и выслали.
В конце концов Алекс вытащил коньяк, после чего языки в какой-то степени развязались. Сначала Хуго рассказал о своих путешествиях, за последние годы он объездил всю Европу, частенько голодал, но дышал, по его словам, «как свободный человек», и казался весьма довольным жизнью. Алекс поинтересовался, чем занимаются германские Беккеры, но о них Хуго ничего не знал, ибо не стал их искать. Как и зачем он приехал в Россию, об этом шурин умолчал, а Алекс не спрашивал – лучше таких вещей не знать. Потом стал задавать вопросы Хуго, и Алекс с удовольствием описал ему, как он поставил дело, как перебрался из Ростова в Москву, и как и тут до войны все шло в гору. Когда Хуго проявил интерес к детям, Алекс нашел альбом. Он рассказал и про Рудольфа – Хуго слушал с серьезным видом, и Алекс подумал, что в смысле человечности родственник вполне нормален, вот только если бы кто-нибудь его и в прочих делах надоумил…
Хуго словно угадал его мысли, потому что вдруг перевел разговор на политику. И после первых же нескольких фраз Алекс понял, что тут между ними словно каменная стена. Для Хуго все вокруг было из рук вон: царь скверный, и министры ни на что не годятся, и промышленники, даже интеллигенция никудышная, поскольку недостаточно активно борется за права рабочего класса.
– И что же ты переделал бы?
Все, был ответ Хуго. Первым делом он перераспределил бы имущество.
– Всем все равно не хватит, – сказал Алекс.
– Пусть будет меньше, но поровну.
Они еще какое-то время спорили, Алекс пытался доказать, что передел имущества ничего не даст, поскольку есть немало людей, которые с этим имуществом и делать ничего не умеют, промотают сразу, выменяют на водку или вовсе уничтожат. Тогда Хуго стал говорить про образование, что сейчас вот далеко не все могут учиться, а при социализме… С этим Алекс в принципе согласился, но посчитал утопией. Он только что читал Бунина, и тот на него сильно подействовал, ибо его опыт совпадал с бунинским.
– Ты не представляешь, что за народ живет в деревне! Они ни работать, ни учиться не хотят, гулять и пить водку – вот единственное, что их интересует. Пройдет лет сто, пока из них что-нибудь получится…
Да пусть хоть тысячу, была точка зрения Хуго, но с этим Алекс опять никак не мог согласиться.
– Тогда зачем вообще что-то менять? – спросил он. – За тысячу лет их может и царь образовать.
Но Хуго остался верен себе – должна произойти революция. Он не отступил даже тогда, когда Алекс стал ему перечислять ужасы войны и сказал, что по сравнению с революцией это ведь еще так себе, мелочь…
– Подумай сам, – бросил Алекс на стол последнюю карту, – ты хочешь передела собственности, но кто же на это пойдет добровольно? Начнется страшная резня…
И когда даже это не испугало Хуго, Алекс спросил напрямую – а со мной что будешь делать, у меня ведь тоже капитал, магазин и просторная квартира, натуральный буржуй, сразу поставишь к стенке, что ли?
Хуго посмотрел на него с иронией и ответил:
– А вот это будет зависеть от того, как ты себя поведешь. Ты ведь не всегда был буржуем.
– Да, это верно, но, в отличие от тебя, я силой ничего у других не отбирал и отбирать не собираюсь. Всего, чего я достиг, я достиг своим умом и трудом. Не такой я немощный, чтобы домогаться чужого.
Хуго молчал, сжав зубы, наверно, удерживался, чтобы не сказать что-то совсем обидное.
Ему тоже не нравится этот разговор, подумал Алекс.
Он встал, извинился, сказал, что устал, показал гостю, где его комната – Дуня перед уходом ему постелила, а сам пошел в спальню, разделся, лег, включил бра и взялся за книгу, но читать не мог, проблемы последних лет вдруг навалились на него словно целый стог сена, душили, царапали пренеприятно. Все было не так, все, с начала до конца! Формально они с Мартой помирились, жена вроде простила его – но именно «вроде», по сути до примирения было далеко, Марта изменилась; нет, они не ссорились и жена выполняла все, даже самые интимные свои обязанности, но уже в следующую секунду была опять холодная и недосягаемая, как графиня Лейбаку. Что касалось Татьяны, то к ней Алекс после встречи в Крыму не ходил, когда эта дура, ни с того, ни с сего приехала туда, он ее сразу обругал, сунул в руки деньги на обратную дорогу и сказал, что между ними все кончено – и сдержал слово, хоть это и было нелегко. Пару раз Татьяна подкарауливала его недалеко от магазина, примерно там, где сегодня ждал Хуго, но Алекс с каменным лицом прошел мимо, и, в конце концов, девушка оставила его в покое. Так он жил, в каком-то смысле – как барин, а в каком-то – как пес, которому милостиво кидают остатки любви. Едва наступила весна, как Марта стала собирать вещи, планировала сразу, как у Германа и Софии начнутся каникулы, поехать на море, но тут случилось несчастье с тестем. Теперь старый Беккер чувствовал себя лучше, и на следующей неделе семья должна была двинуться дальше. А он? Он сидел безвылазно в Москве и топил горе в работе.
Тихий стук прервал размышления.
– Входи, я не сплю!
Хуго казался смущенным, спросил чуть ли не застенчиво:
– Ты очень устал?
– А что?
– Можно, я немного поиграю на рояле?
– Валяй.
Высокая сутулая, напоминающая тестя фигура исчезла, и скоро из-за стены послышались звуки фортепиано. Алекс отложил книгу, которую он так и не начал читать, и прислушался. Хуго играл хорошо, не хуже Марты, а, может, и лучше, время от времени он, правда, брал не ту ноту, но чем дальше, тем увереннее становился, наверно, давно не имел случая помузицировать, кто знает, что за жизнью он в Европе жил, путешествия путешествиями, но голодному человеку ни один город не в радость. А вот он, Алекс, тьфу-тьфу, сыт, но играть на рояле не умеет и никогда уже этому не научится – поздно! Да, все, что мы в этом мире можем повернуть к лучшему, делается для наших детей, только они могут получить то, чего нас самих лотерея судьбы лишила; так что, кто знает, может, Хуго и прав, мечтая о времени, когда удастся дать образование каждому, даже самому последнему голодранцу…
Опять стучат колеса, опять трясется вагон – Марта, ты стала чуть ли не перелетной птицей, только направление у тебя другое, весной летишь на юг, а осенью – на север. И тащишь на спине детенышей, которые сами еще летать не умеют, человеческие птенцы ведь растут медленно; все же немного пользы от них уже есть, Герман и София на стоянках ходят покупать лимонад и баранки, правда, ты всегда волнуешься, не опоздают ли они на поезд, Герман ведь прихрамывает – но, к счастью, оба они точные и осторожные. Вот от Эрвина нет никакого толку – но и вреда, сидит тихо у окна и смотрит наружу, а когда поезд останавливается на станции, хватается за книгу – во время езды мама читать не позволяет, можно испортить глаза. Ему всего лишь семь, но сколько он уже прочел! Главная непоседа – Виктория, все время в движении, бегает туда-сюда, заговаривает с незнакомой женщиной, задает вопросы, хочет того-другого, даже на коленях удержать ее трудно; но главное горе – Лидия, болезненная, вечно печальная, плаксивая. Трудно так, с пятью детьми, но без было бы еще труднее – дети требуют внимания, это хорошо, некогда думать. Всегда ты, Марта, хотела быть наедине с собой, а больше не хочешь. Мир мерзок, люди подлецы. И твой муж – подлец, такой же, как все, или, возможно, немного лучше, но все-таки подлец. Что хуже всего, невозможно понять, жалеет ли он о своих поступках? С одной стороны, словно бы жалеет, зимой все вечера просидел дома, кроме тех, когда ходил с тобой или с детьми в театр; но, с другой, неудивительно, если он завтра же опять ляжет в постель с какой-нибудь вертихвосткой, для него это как будто вообще не имеет значения, или, скажем иначе, умом он понимает, что так себя вести не следует, но его организм, его инстинкты спорят с этим. И все же, даже, если не было бы детей, если бы ты была с ним вдвоем, ты бы все-таки сказала – лучше вместе, чем врозь. Может, какая-то другая женщина и создана для одиночества, но не ты, Марта. Дело не в том, как прожить, дело в другом – тебе нужна опора. И опора Алекс надежная, без него ты бы ночи напролет волновалась по пустякам, особенно сейчас, когда тревог стало так безумно много, когда к обычным заботам о здоровье детей и их школьных оценках прибавились необычные. Где-то идут бои, убивают людей – и такое же сражение идет и в твоей душе. Странное ощущение – словно кто-то взял твое сердце и разрезал пополам, на немецкую и русскую половину, и теперь одна воюет с другой и конца не видно. И что будет, если одна половина победит? Можно ли жить дальше с пол-сердцем?
«Лермонтов и Гете, Лермонтов и Гете,» стучат колеса, дети спят, и горные вершины спят в ночной мгле; отдохни и ты.
Глава четвертая
Революция
Показался трамвай, но уже издалека было видно, что это опять двадцать седьмой.
– Может, поедем и на Лубянке пересядем?
– Подождем еще немного.
Герман не любил пересадок, ему было трудно несколько раз влезать в вагон и вылезать.
Заиндевевший от холода «неправильный» трамвай уехал. К нему была привязана красная ленточка. Изо рта Германа шел пар, а у Софии стали мерзнуть пальцы. По другую сторону улицы, на катке, гувернантка поддерживала дочь адвоката Коломенского, которая все время теряла равновесие.
– Плохо, что наша школа так далеко. Когда вернемся, будет уже темно, и опять не удастся покататься на коньках.
Едва произнеся эту фразу, София почувствовала, что краснеет. Когда она научится, что можно говорить, а чего нельзя? Герман ведь не может кататься, и ему неприятно, когда кто-то затрагивает эту тему.
– Ничего, скоро дни станут длиннее, – ответил Герман словами мамы.
– Но тогда растает лед! – засмеялась София.
Показался следующий трамвай, на сей раз двадцать девятый, но битком набитый.
– Сделай пару шагов, чтобы водитель увидел, что ты хромаешь, тогда он откроет переднюю дверь.
– Знаю-знаю, – проворчал Герман.
Они влезли-таки через переднюю дверь в вагон и стали за спиной водителя. Поездка была длинной и скучной, в трамвае воняло луком, какой-то пьяный постоянно требовал, чтобы его выпустили в Петровско-Разумовском, хотя трамвай как раз оттуда и ехал.
– Как ты думаешь, Брусилову поставят памятник, когда война закончится? – спросил Герман.
– Не знаю. А ты как думаешь?
– Я думаю, поставят, Скобелеву же поставили. Может только, не сразу, а после смерти.
– Ужасно, что для того, чтобы тебе поставили памятник, надо сначала умереть! – засмеялась София.
– Еще хуже, если бы их ставили при жизни. Можешь вообразить, гуляешь по городу и видишь – вот одна София Буридан из гранита, вот другая из бронзы…
– Лучше тогда уж из мрамора, – сказала София. – А ты хотел бы, чтобы тебе после смерти поставили памятник?
Герман немного подумал.
– Я бы с большим удовольствием сам поставил бы его кому-нибудь. И не на коне, а на верблюде. С конем столько памятников, а с верблюдом – ни одного!
На Маросейке они вышли и разошлись. Подходя к школе, София уже издалека увидела, что что-то не так. Двор был полон девочек, на крыльце стояла директриса и говорила. У нее изо рта тоже шел пар.
София разыскала в толпе Лилю Щапову.
– Лиля, что происходит?
– Уроки отменяются. В Петрограде революция.
Лиля была красивая и спокойная, она напоминала Софии скульптуру из книги по истории искусств. Каждым летом она ездила в Ниццу и уже целовалась. «Я думаю, скоро я лишусь чести», – призналась она недавно Софии. София не совсем понимала, что это значит, но все-таки ей было ужасно жаль Лилю.
– Отец говорит, что это плохо кончится, – сказала Лиля. – Он говорит, Россия без царя не может. Будет разруха, голодные бунты, пугачевщина. Вот увидишь, сказал он маме, завод придется закрыть. Мама заплакала. Только, по-моему, они слишком волнуются. Ведь другие люди трудятся, почему мы не можем? Кем ты пойдешь работать, если твоему отцу придется закрыть магазин?
– Не знаю.
– Я пойду почтальоном. Мне так нравится гулять по утренней Москве.
Вдруг перед ними возникла мадемуазель Маршан.
– Ecoutez-moi, Sophie et Lilya! Il-y-a un revolution dans la Saint-Petersbourg. Maintenant la Russie est libre comme la France! Cést la republique[1]!
Мадемуазель Маршан совсем не знала русского, на ее уроках все должны были говорить по-французски.
– Pourquoi, mademoiselle Marchand, vous aimez la republique mieux que la monarchie? – спросила Лиля.
– Parce que tout les citoyens de republique sont libre! Les Russes, Les Allemandes, Les Juives – tout le monde! Sophie, tu n´es oubliez pas la devise de la Grande Revolution Francaise?
– Bien sur que non! Liberte, egalite, fraternite!
– Tres bien![2]
Мадемуазель Маршан, оживленная и счастливая, пропала в толпе девочек. Она была такая же маленькая, как ученицы. Директриса отвернулась и вошла в здание школы. Все стали расходиться.
– Хочешь, я отвезу тебя на автомобиле домой?
Лиля была единственная, отец которой имел автомобиль.
– Я не могу, мне надо разыскать Германа.
– В таком случае – прощай! Кто знает, встретимся ли мы еще?!
– Ты думаешь, школу больше не откроют?
– Школу, может, и откроют, но приду ли я на уроки, непонятно. Возможно, мы с папой и мамой поедем в Париж. А, возможно, меня захватят бунтовщики, изнасилуют, убьют и бросят труп в Москву-реку.
Лиля сказала это так спокойно и храбро, даже как будто с небольшим интересом – словно она чуть ли не надеялась, что бунтовщики проделают с ней все это. Потом она обняла Софию и побежала к автомобилю, стоящему немного поодаль. Из него выскочил шофер в униформе и открыл ей дверцу. Лиля помахала в последний раз Софии и села в машину.
София направилась к школе Германа, но далеко ей идти не пришлось, она увидела брата, который, прихрамывая, шел ей навстречу. Оказалось, что в реальной гимназии тоже отменили уроки.
– Сказали, чтобы мы оставались дома, пока не сообщат.
На Маросейке была уйма народу, заметно больше, чем обычно, у многих в петлицах или на шляпах красные ленточки. Они как раз подошли к трамвайной остановке, когда увидели отца, который быстрым шагом приближался со стороны Лубянки.
– Папа!
Отец остановился и привычно сощурился.
– Ну, слава Богу!
Он обнял Германа и Софию и стал искать извозчика.
– Папа, почему ты такой озабоченный? Это же не война, а революция! Смотри, какие все вокруг радостные!
Может, я действительно волнуюсь зря, подумал Алекс. Может, все кончится хорошо, составят новое правительство, из разумных людей. Только откуда их взять? Вот если бы был жив Витте или хотя бы Столыпин! Но Витте умер, Столыпина убили, и смогут ли господа кадеты и октябристы обуздать Россию, сомнительно. И все же, решил Алекс, не стоит выказывать свои сомнения при детях.
– Я не озабочен, озабочена мама. Она узнала, что школы сегодня не работают, и послала меня, чтобы я вас разыскал. У нас гости, дяди Менг и Вертц прибыли из Киева. Они ждут в моей конторе, мы заедем туда, прихватим их и отправимся домой. Мама уже печет пироги.
Но путешествие затянулось, потому что дядя Менг и дядя Вертц хотели обязательно зайти к Елисееву.
– Дети, входите и вы, на улице холодно, – позвал отец.
В магазине был очень высокий потолок, красивые люстры и множество народу. Одна стена была полностью покрыта ананасами.
– Не надо ничего покупать, дома все есть, – уговаривал отец, но Менг и Вертц все равно дали продавцам заполнить корзиночки из щепок.
Около памятника Пушкину они увидели митинг. Развевались красные флаги. София с удовольствием послушала бы, о чем там говорят, но отец и гости спешили.
– Папа, а что теперь будет с царем? – спросил Герман, когда они подъезжали к Триумфальной.
– Наверно, уедет куда-нибудь за рубеж. У него же полно родственников в разных странах, с Вильгельмом они, правда, поссорились, но кроме него есть еще двоюродный брат Джордж в Англии и родня жены.
София заметила, что ответ отца как будто успокоил Германа.
Мать вовсе не была озабочена, а оживленная, как народ на улице, смеялась и шутила и позвала замерзших гостей пить кофе.
– Мама, можно, я пойду на каток? – спросила София.
– И я, и я! – закричала Виктория.
– Идите! – разрешила мама.
Когда девочки дошли до катка, дочери адвоката Коломенского там уже не было.
– Замечательная штука, эта революция! – болтала Виктория, надевая коньки. – Дуня сказала, что теперь ей можно будет выйти замуж. А жена Богданова, когда пришла вернуть маме кастрюлю, говорила, что ее братья, наконец, переедут в Москву. Раньше нельзя было, потому что они евреи. А наш дворник пошел записаться в милицию. София, что значит «охранка»?»
– Это полиция.
Виктория захихикала.
– А я подумала, суп, как солянка или окрошка. И меня ужасно рассмешило, когда дворник сказал, что охранку надо развесить по фонарным столбам. Не смотри!
Она повернулась к Софии спиной, скинула шубку на снег и стала возиться со свитером.
– Теперь можно!
На груди Виктории развевалась красная ленточка.
Пятно опять раздалось вширь, совсем немного, посторонний, наверно, не заметил бы, но я-то вижу, я слишком хорошо знаю свою душу, чтобы пропустить даже самые незначительные изменения. Как я испугалась, когда обнаружила его! Сначала это было крохотное пятнышко, вроде того, которое иногда плавает перед глазом, но сейчас стало уже изрядным пятнищем – если такое оказалось бы на платье, пришлось бы сразу пустить его на тряпки, но что делать с душой? Ее ведь не заменишь, как платье.
Да, Марта, ты уже не невинна. Девственность теряют не в свадебную ночь – кто-то лишается ее намного раньше, кто-то живет с ней до самой смерти, никого не стесняясь. Многие годы Алекс был единственным мужчиной в твоей жизни, и вдруг кто-то стал рядом с ним. Нет, не вместо него, а именно рядом – словно камердинер, который должен сопровождать хозяина в длинном путешествии. Наверно, в этом тоже виновата революция. Ибо когда рушатся крепостные стены, простоявшие века, как может устоять слабая женщина? И все же вначале все было, как обычно, пришли гости, поели, попили, повеселились. Ничто не предвещало того, что случилось. Правда, Вертц пару раз приглашал тебя потанцевать – но он делал это и раньше. Холостяк Вертц – они оба с Менгом холостяки. «Мы в глазах малороссийских красавиц уроды!» – смеются они.