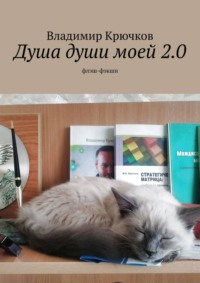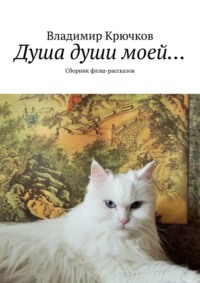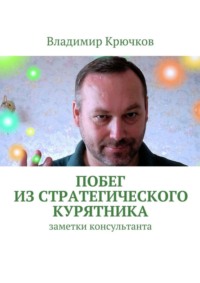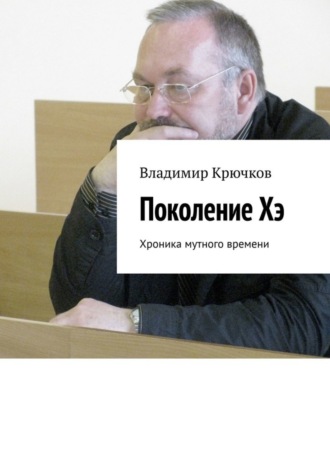
Полная версия
Поколение Хэ. Хроника мутного времени
Первый вариант Толик отвез в Москву – в журнал ЦЭМИ АН СССР «Экономика и математические методы». Статью подозрительно легко приняли. Настолько легко, что Толик заподозрил подвох. Он вернулся и переспросил в редакции, когда можно ждать публикации. Ему с той же легкостью посоветовали поинтересоваться лет через пять. Толик обомлел: – Через сколько?! Ему так же незлобиво объяснили, что его статья внеплановая, а у редакции хватает и своих аспирантов, которым нужно публиковаться. Толик молча забрал статью и вернулся в Омск.
Макс не огорчился – ничего другого от экономистов он и не ожидал. Он тут же набросал англоязычный вариант и они послали его в какой-то австралийский журнал по математической экономике. Через пару месяцев пришел благожелательный отрицательный ответ с приложенной рецензией. Макс, мельком глянув на выводы рецензента, коротко сказал: – А, и в Австралии уже засели наши марксистские м***ки.
Параллельно развивался другой сюжет. Макс давно порывался уехать из Омска, поскольку его тяготила душная псевдонаучная атмосфера провинциальной высшей школы. Сначала он загорелся уехать в Барнаул. У него там работал коллега по дубненской аспирантуре. Там – природа, там роют специальные шахты, в которых изучают космические лучи. Толик осторожно спросил его, бывал ли он в Барнауле. Узнав, что нет, выделил Максу деньги с договора на командировку в Барнаул. Через неделю Макс приехал и сказал, что в Барнаул ездить не стоит.
Через месяц он с таким же воодушевлением начал говорить о Владивостоке. Там работал его другой коллега оттуда же. Там – природа, там океанология и теоретическая физика… Толик поскреб по сусекам и набрал Максу на командировку во Владивосток. Через неделю Макс приехал и сказал то же, что и о Барнауле. Толик вздохнул с облегчением, но… через пару месяцев Макс заговорил об Израиле. Толик честно сказал, что шекелей у него на договоре нет и закрыл для себя тему. Но не для Макса. Через полгода тот уехал с мечтательной Леной (женой) и Соней (дочкой), трогательно пиликавшей «И мой сурок со мною» на детской скрипочке, в Израиль. Там он устроился на работу в Институт пустыни (кажется, в наукограде Халоне) и через полгода написал Толику, что если бы тот послал его предварительно в командировку в Израиль, то хрен бы он туда поехал. В редких письмах Макс писал о том, что Халон – приличный университетский городок, но палестинские ракетные обстрелы – страшное зрелище и он боится за жену и дочку.
Вскоре пришло письмо, в котором Макс писал, что как-то шел по Иерусалиму и на заборе увидел плакат с объявлением о том, что скоро в местном университете состоится лекция профессора из Стэнфорда У.-Б. Артура (статья которого в Scientific American в свое время вдохновила их на применение автоколебаний в экономике) и какого-то нобелевского лауреата. Деловитый Макс тут же установил, в какой гостинице они остановились и позвонил туда. Артур с нобелевским лауреатом собирались в гостиничный ресторан на обед и сказали Максу, чтобы он приходил прямо в ресторан. За обедом они выслушали концепцию статьи, бегло посмотрели выкладки, повеселились над историей с австралийским журналом, сказав, что все они там м***ки и посоветовали Максу послать статью Джону Касти в Нью-Йорк, в его журнал, а они ему напишут, что статья приличная. В этом месте письма Толик слегка ошалел, поскольку Джон Касти был мировой величиной в области прикладной физики, а его журнал, хоть и не был в первых строках рейтинга научных изданий, но был весьма уважаемым среди профессионалов. Еще через полгода статья вышла.
От статьи, как от камня, брошенного в пруд, пошли круги. Сначала Толик получил письмо от исследовательского центра французской нефтяной компании Elf с просьбой разрешить перепечатать их статью для внутреннего пользования. Толик великодушно разрешил. Потом пришло предложение от европейского справочника Who Is Who с предложением прислать краткую биографию для размещения в справочнике. Ошалевший Толик биографию перевести на английский язык так и не удосужился, посему европейцы, к сожалению, так и не узнали, Who же есть Толик. Затем пришло письмо из American Mathematical Society с предложением вступить в члены общества. Годовой взнос составлял 90 долларов США. Вежливый Толик, тщательно подбирая слова и выражения, объяснил в ответном письме, что в настоящее время его годовой доход составляет 120 долларов США, посему пока он не сможет стать членом столь уважаемого общества. Но американские математики оказались настойчивыми – они тут же прислали ему предложение все-таки стать членом общества по квоте «for economically troubled countries2» всего за 16 долларов в год. Не будучи последней скотиной, Толик наскреб 16 долларов, заплатил банку еще 5 долларов за перевод и стал уважаемым членом AMS. Теперь раз в квартал на почту ему приходил журнал общества с последними новостями из мира математики. Толик старательно его читал и долго потом сидел с затуманенным взглядом…
Вскоре Макс перебрался в Канаду и иногда они с Толиком болтали по скайпу. Толик с удивлением узнавал, что его брюзжание по поводу бюрократизации отечественной высшей школы и надежда на то, что уж в Канаде-то с этим все в порядке, наталкиваются на спокойное изложение Максом проблем в его университете, и проблемы эти до боли сердечной были похожи на те, которыми так возмущался Толик. Через 25 лет, когда в наших вузах началась истерическая кампания по выжиманию из преподавателей зарубежных публикаций, Толик вспомнил про эту статью и какое-то время она оберегала его от наскоков университетской администрации, поскольку у самих светочей научной мысли таких публикаций не было. Через много лет они с Максом и его коллегой по канадскому университету сделали продолжение этого исследования и опубликовали его в докладах приличной международной конференции по численному анализу. У Макса прихватило сердце, из-за чего он не смог прилететь на доклад и предложил сделать доклад Толику, оплатив ему все расходы со своего университетского счета. Но руководство университета Толика пожалело денег даже на билет и Толик отказался, испытывая чувство неловкости перед Максом. Размер зарплаты российского профессора в эпоху «майских указов» не позволял ему даже мечтать о том, чтобы полететь за свой счет, которого хватало только на оплату коммунальных услуг и растительную жизнь в провинциальном городке.
***
Где-то год назад позвонил коллега по прошлой работе и предложил поработать в их университете. Университет казался довольно приличным, к маркетингу и рекламе Толик по старой памяти относился хорошо и он согласился подумать. Коллега познакомил его с заведующим кафедрой – тот произвел хорошее впечатление. Правда, остался небольшой осадок от того, что во время их разговора жена заведующего сидела в кабинете, не поднимая глаз и внимательно слушая их разговор. Как потом узнал Толик, она преподавала управление персоналом и считала себя большим людоведом и душелюбом. Предчувствие не обмануло. Дальше заведующий предлагал ему все более радужные перспективы, но предлагал их он все реже и реже, пока контакт не затих вовсе. Толик не очень огорчился по этому поводу и сосредоточился на нечаянных sabbatical, свалившихся на него в результате ухода из своего университета.
Через год заведующий опять возобновил переговоры через коллегу и они договорились на полставки. Толик собрал все необходимые документы и отдал их на кафедру. Коллега предупредил его, что процесс оформления может затянуться на месяц, как принято в их университете. Толик не удивился, поскольку занятия в магистратуре начинались как раз через месяц и было бы странно, если бы рачительный плановый отдел не воспользовался возможностью сэкономить фонд заработной платы. Он продолжал наслаждаться отдыхом, время от времени благодушно отвечая на звонки заведующего кафедрой, в которых тот ругал плановый отдел и учебно-методическое управление за волокиту. Конечно, по-хорошему, приличный вуз так не должен был себя вести по отношению к профессору, но что такое «приличный вуз» в наше время? И что такое «уважение к профессору» в условиях сокращения финансирования? Он даже побывал на заседании кафедры, где его представили как крупного специалиста. И пауза продолжилась.
Толик начал новую книгу прозы автобиографического толка, вставляя в нее свежие впечатления от предстоящей работы. Книга продвигалась обычным темпом – три страницы в день. Параллельно он изучил все варианты пути от вокзала до работы, особое внимание уделяя минимизации количества ступенек в метро и подземных переходах – коксоартроз давал о себе знать все чаще и чаще. Заодно изучил все кафе и кофейни в районе университета. Насыщенность точками питания его приятно удивила. Больше всего понравилось то, что в шаговой доступности оказался приличный фуд-маркет «Депо» на Лесной. Приятным бонусом оказалось и то, что из университета можно было без пересадок добраться на автобусе до вокзала, не спускаясь в метро.
Исследовав кофейный пейзаж в районе «Новослободской», он остановился на непонтовых «Пан Запекан», Coffix и C’Cups. Сидящие в Coffee Beans сутками понторезы с Макбуками всех мастей со временем стали раздражать, да и цены на генномодифицированный стерильный кофе под пять долларов тоже не выдерживали конкуренции с многочисленными кофеенками со свежеобжаренным кофе по 100 и даже 50 рублей. Ребята из Beans бодро топали путем «Шоколадницы» и «Кофе хауза», доигравшихся до поглощения более удачливыми конкурентами. Те же не переставали поражать бургерами за 39 рублей (что можно положить в бутерброд за 39 рублей – предмет упражнений для Дэвида Копперфильда – кстати, почему бы не задать этот вопрос в «Что? Где? Когда?» и заработать на этом?)
Диссернет все подливал масла в огонь, опубликовав разоблачительное исследование плагиата в диссертациях ректоров российских вузов. Под раздачу попали Бауманка, питерский финэк, да и вдове Починка (РГСУ) заодно досталось. Остальная мелкая региональная сошка не удивляла – дело обычное. Учитывая то, кем надо быть, чтобы в предложенных условиях усидеть в кресле ректора, результат был скорее закономерным, чем выпадающим из ряда. Скучно, господа. Как говорил сантехник в старом советском анекдоте: – Надо менять всю систему. А рыться в сегодняшнем окаменевшем г… не, наших дней изучая потёмки, просто непродуктивно.
И тут Толик задумался. Впервые. А что делать? Все же он, как-никак, был консультантом по управлению с двадцатипятилетним стажем. И любил представляться этаким Вульфом из «Криминального чтива»: – Вульф, решаю проблемы. Решать ему приходилось, действительно, довольно разные проблемы – от определения стратегии развития оборонного предприятия до оптимизации системы полива полей стоками из свинарников и ускорения процесса доращивания свиней. Так почему же от брюзжания и поглаживания своего эго не перейти к конструктивным предложениям, хотя бы на бумаге – что делать, чтобы исправить положение с высшим образованием? Развернуть дерево проблем и разработать дерево решений? Слабо?! Без улета в эмпиреи, без бла-бла-бла. По-взрослому. Толик вздохнул и сел заполнять разработанные им формы для проведения СВОТ-анализа.
Но перед этим, интереса ради, просчитал ситуацию с помощью 36 стратагем.
Стратагемы не подвели и задали, как всегда, направление анализа, не лежащее на поверхности. Толика всегда восхищала эта кажущаяся простота, даже тривиальность, китайских стратагем – уже не один коллега попадался на крючок этой простоты и пренебрежительно проскакивал мимо богатейшего инструмента, вскрывающего скрытые от невнимательных глаз рычаги и мотивы происходящих событий.
Через 15 лет после первой публикации калькулятора стратагем, разработанного им на основе 4-мерного представления и метода планирования эксперимента, стали появляться статьи коллег с первыми проблесками понимания стратагем как структурированного инструмента. Сначала коллеги поправили несовпадения в таблице, опубликованной Толиком, а потом пожали плечами и стали гадать на кофейной гуще. Толик не удивился, поскольку хотя коллеги и были докторами технических наук, но попадая на поле гуманитариев, они тут же расслаблялись и работали весьма небрежно.
Следующая публикация была более осмысленной – приличный программер привязал 64 гексаграммы И-цзин к трехмерному кубу, поместив в каждую его вершину еще по одному кубу, получил 64 сочетания и на этом успокоился. С одной стороны, Толик обрадовался, что, в отличие от предыдущей публикации, человек заглянул в многомерное пространство, но, к сожалению, не вошел в него и остановился на пороге.
На поверхностные упоминания прочих коллег, вовсе «не врубившихся» в проблему, Толик просто не обращал внимания.
Итак, включив свой калькулятор, Толик быстро рассчитал стратагему, контрстратагему и контр-контрстратагему для страны и для себя в ней.
Результат не обрадовал, но и не удивил – коротко говоря, нужно было работать терпеливо, не веря лозунгам о расцветании всех цветов и особо не высовываясь, прячась за цветистостью эзопова языка. Как говорили классики, нужно было думать глобально, а действовать локально. Что ж, подумал Толик, а как я до сих пор думал и действовал?
***
СЧД 4. На заседании Валдайского клуба Президент озвучил главный итог его двадцатилетнего правления: – Мы, – сказал он, подумав, – удержали страну от гражданской войны. Я не сразу понял – какой войны? Если он имел в виду чеченскую, так она была с мировым терроризмом, как он сам всегда говорил. Может, живя безвыездно эти двадцать лет в стране, я что-то упустил? Или прав был БГ, что все это время мы героически воевали сами с собой?
И только через день (па-апрашу без намеков) до меня дошло, что его мордоделы додумались использовать расхожее выражение-причитание, которое они приписывают столь любимому ими «глубинному народу»: – Только б не было войны!
Вот он и сказал этому народу – Вот видите, войны не было, и это – моя заслуга.
Они это серьёзно? Они – его мордоделы и он сам, – серьёзно?! За кого они нас держат? Да, я слышу это причитание постоянно, но как ироничный мем, не более. Поймал себя на мысли, что надо бы ему обзавестись пиарщиками поумнее, но тут же понял, что с таким исходником ни один пиарщик не спасёт. Надо, как в старом анекдоте, менять совсем не кровати.
***
На досуге Толика давно интересовали публикации А.Т.Фоменко по хронологии. Анатолий Тимофеевич был личностью незаурядной – настолько, что возбуждал яростное неприятие коллег-математиков – таких, например, как академик Новиков, лауреат Филдсовской премии. Тот прямо заявлял, что если бы в момент голосования в академии наук он был в Москве, звания академика Фоменко ни за что не получил бы. О Фоменко Толик узнал случайно. Впервые он увидел необычные рисунки тушью на обычных альбомных листах на импровизированной выставке в кафе зоны «В» Главного здания МГУ на 15-м этаже. Кафе, кажется, называлось «Под парусами». Рисунки поражали воображение именно размерностью картин – они уходили за плоскость листа, выступали перед ней, закручивались за край и взвивались спиралью над ней. Какие-то фигурки карабкались по невообразимому рельефу, сидели верхом на лезвиях бритв, исчезали в переплетении линий. Толик был ошеломлен. Тогда он узнал, что это рисунки молодого математика, тополога Фоменко. Дальше он не упускал его из виду. А тот не уставал напоминать о себе. То, став членом Американского математического общества, Толик видел многочисленные книги и альбомы его рисунков, бережно издаваемых обществом, то поднимался шум со стороны академической исторической науки о потрясении основ дилетантом, то ему попадался альбом ин-фолио рисунков Фоменко на ветхозаветные темы. Когда дочки поступили на мехмат МГУ, Толик сказал им – если будет возможность, походите на лекции Фоменко. Они записались на курс лекций Фоменко и им понравилось.
Неприятие книг Фоменко в соавторстве с Носовским по новой хронологии было просто яростным. Хронологию критиковали буквально все – от академиков до «пикейных жилетов». Даже термины появились – «фоменкология» и «фолк-хистори». И понятно – посягнули на святое. Поскольку Толик уважал Фоменко как ученого-тополога, он решил разобраться и в Новой Хронологии. Первое, на что он обратил внимание, была книга отца Анатолия Тимофеевича, бережно подготовленная сыном к печати и изданная небольшим тиражом. Как оказалось, и отец Фоменко был незаурядной личностью. После отсидки в лагерях он стал главным технологом крупного химического комбината и сумел защитить кандидатскую диссертацию по техническим наукам. Но интересно было другое – в свободное от основной работы время он скрупулезно собирал фактологию по Ветхому Завету. И именно эти материалы сын бережно собрал и издал отдельной книгой. То есть, увлечение истинностью в истории у него было наследственным.
Одна из книг Фоменко – «Истину можно вычислить» привлекла внимание Толика тем, что в ней была изложена методология исследований по новой хронологии. И, прочитав ее, Толик увидел стройную систему, предшественницу того, что сейчас называют «аналитической культурой» в сфере искусственного интеллекта. Масса исторических фактов сопоставляется и перекрестно изучается для выявления нестыковок и противоречий. И, как это ни печально, их оказывается колоссальное множество. Если же вычесть их из массива исторических сведений, как раз и получается Новая Хронология, без противоречий, очищенная от идеологических наслоений. Естественно, картина выглядит абсурдно. Фоменко с Носовским и не настаивают, что она истинна, они наглядно показывают размер авгиевых конюшен официальной исторической науки и степень окаменелости ее содержимого. Академики же, вместо того, чтобы сказать спасибо за колоссальную работу, проведенную Фоменко с Носовским, зажимают носы и брезгливо помавают руками, как пластические греки у братьев Жемчужниковых. Естественно, это не продвигает историческую науку к истине и еще дальше отодвигает ее от звания науки. Толика, например, поразила настойчивость и скрупулезность авторов, подвергнутых впоследствии форменному остракизму, в расследовании дела о Мамаевом побоище – Куликовской битве. Он сам съездил на «Автозаводскую», побывал в церкви Рождества Богородицы, где похоронены Пересвет и Ослябя, побродил под стенами Симонова монастыря.
Понятно, что выводы Фоменко и Носовского рушили самые основы комфортного существования целого клана историков, лишали целые вереницы их публикаций какого-либо смысла. Более того, возникали сомнения по поводу национальных святынь и заповедников, вроде мемориального комплекса «Куликово поле», а это уже большая идеология, в тени которой прячутся очень большие деньги. Так что, яростное сопротивление Новой Хронологии вполне объяснимо. Но это лишний раз доказывает то, что занятия топологией позволяют Анатолию Тимофеевичу разглядывать эту суету из другого измерения, не придавая ей флатландски-трагического значения.
***
Опьянение первыми результатами закона о кооперации наступило так же быстро, как и последовавшее вскоре отрезвление. Операция с законом напоминала китайскую кампанию «Пусть расцветают сто цветов», когда расцветшие цветы были мгновенно скошены следующей кампанией. Поначалу все было прекрасно – их кооператив паял мини-компьютеры как горячие пирожки. Более того, они заключили договор с областным отделом образования на компьютеризацию школ области. Денег хватало и на спокойную жизнь, и на такси, и на подарки женам в виде колец и серег с изумрудами и бриллиантами. Кое-кто из правления кооператива даже стал присматриваться к иномаркам, обсуждая преимущества Тойоты Короллы по сравнению с Тойотой Камри. Распределение заработанных денег было организовано достаточно прозрачно, что позволило избежать неизбежных подозрений и зависти внутри коллектива. Толик с ребятами мечтали об организации международных конференций во время круизов на теплоходе по Иртышу и Оби к Карскому морю.
И никто из них не мог предположить, что уже через полгода кооператив развалится на два в результате крупного скандала между сотрудниками из-за денег, а еще через полгода вновь образованный на обломках кооператив развалится еще на два из-за еще более крупного скандала. Оба собрания по развалу кооперативов единодушно поручили вести Толику. Он пытался призвать товарищей к примирению, но не был услышан. Осколки крупнейшего в городе кооператива оказались нежизнеспособны, а вскоре все эти заигрывания с кооперацией были пресечены сверху железной рукой. Начиналась новая эпоха – эпоха акционирования и распила государственного имущества.
Уши крупнейшей в новой истории страны аферы торчали слишком явно и когда Толику предложили войти в правление чекового фонда, он брезгливо отказался. Неотказавшиеся вскоре резко разбогатели. Каждый из правления расплодившихся чековых фондов вдруг оказался членом советов директоров десятка-другого предприятий, о продукции которых не имел ни малейшего представления. Об обещанных владельцам ваучеров дивидендах все быстро забыли – не до них было. Начался дилетантский кайф – вдруг стало возможно управлять бизнесом, ничего в нем не понимая. В советах директоров серьезных в недавнем прошлом предприятий стали появляться жены, дети, любовницы главных акционеров. Голоса старых специалистов, пытавшихся удержать новых руководителей от опрометчивых шагов, были заглушены амбициями и пренебрежением вновь пришедших «хозяев жизни», что чаще всего приводило либо к краху, либо к медленному умиранию предприятий.
Занимаясь управленческим консультированием, Толик насмотрелся на чудеса эпохи первоначального распила (накоплением это точно не являлось) государственного капитала. Наиболее масштабные вещи происходили в оборонке. Накопившие немалый «жирок» в советское время, предприятия оборонки столкнулись с проблемой резкого сокращения госзаказа. Государство сказало им – народ нуждается в товарах народного потребления (ТНП), вот и займитесь ими. Кадры у вас обученные, оборудование передовое – вперед! Обогащайтесь!
Обогащаться – это хорошо, но как? Руководители умели хорошо и напряженно руководить выдачей уникальных изделий к праздничным датам – при непременном условии неограниченного финансирования. А тут – кто будет финансировать? Рынок? Потребитель? А кто это такой и откуда у него деньги… Ненадежно как-то это все. И начали высокоточные станки штамповать неуклюжие тазики и кастрюли. Правда, поначалу были попытки наладить выпуск бытовой электроники – от кассетных магнитофонов до микроволновок – но они быстро закончились по причине низкого качества новодела. Когда возврат достиг 40% и выше, а затраты намного превысили доходы от продаж, руководство задумалось. И главным итогом этих размышлений стал блестящий вывод – «ЦК нам поможет!» И они уселись в ожидании помощи ЦК (естественно, КПСС). Но помощь все не приходила, а там и сам ЦК почил в бозе (до сих пор ленюсь посмотреть в Гугле, кто же такая «бозя»3). Там же почили и многие предприятия-орденоносцы и обладатели знамен ЦК.
Да, чуть не забыл – были и попытки образовать совместные предприятия с солидными западными/восточными фирмами. Например, одно предприятие космической отрасли на Урале договорилось с фирмой Siemens о совместном производстве настольных компьютеров. Практичные немцы дали нашим 100 комплектов клавиатур для сборки. Наши орденоносные сборщики буквально за ночь, хотя в сроках их никто не ограничивал, собрали эти клавиатуры и с гордостью отдали немцам. Те поставили их на испытательные стенды – две клавиатуры еле-еле проползли в годные по нижнему пределу уровня качества. Практичные немцы попросили объяснить им, как можно сотрудничать при таких показателях качества. Через год наши с трудом договорились о штамповке пластикового стакана и страшно гордились тем, что начали сотрудничать с Западом. «Космические» амбиции улеглись – пришло понимание того, что массовое производство требует другой культуры, нежели мелкосерийное и единичное.
Все это Толику довелось повидать изнутри. К нему обратилось с просьбой проконсультровать одно из лучших предприятий отрасли, которое активно искало пути выхода из конверсионного тупика. Конверсией в конце 80-х назвали процесс перевода оборонных предприятий на гражданские рельсы. Лукавый термин скрывал еще более лукавое содержание. Дело в том, что американцы уговорили нас начать конверсию оборонки параллельно с ними. Наши со всего маху вляпались в эту аферу, не разобравшись в нюансах. Американцы же «прогнали картинку», не тронув в действительности ни одного из своих оборонных производств всерьез. В результате наши предприятия деквалифицировали рабочих и инженеров, угробили высокоточную технику и разрушили стройную систему подготовки производства и кадров. Именно это полным ходом происходило на обратившемся к Толику предприятии с тем отличием, что руководство стало подозревать, что что-то тут не так. Перед этим на заводе поработал авторитетный московский консультант по управлению, оставив объемистый отчет и руководство в задумчивости – что же ему делать.
Толик проанализировал экономические показатели по своей методике, диагностировал проблемы и разработал рекомендации. Директор прочитал их, понял, что делать, но откровенно сказал Толику, что у него этим заниматься некому по причине отсутствия необходимой для этого квалификации. Он сказал прямо: – Ты насоветовал, вот ты и делай. Толик подумал и согласился. Для него ввели новую должность – заместитель генерального директора по экономике и подчинили ему два отдела – плановый и труда и зарплаты. Кроме того, Толик создал еще два новых отдела – маркетинга и новых форм хозяйствования.