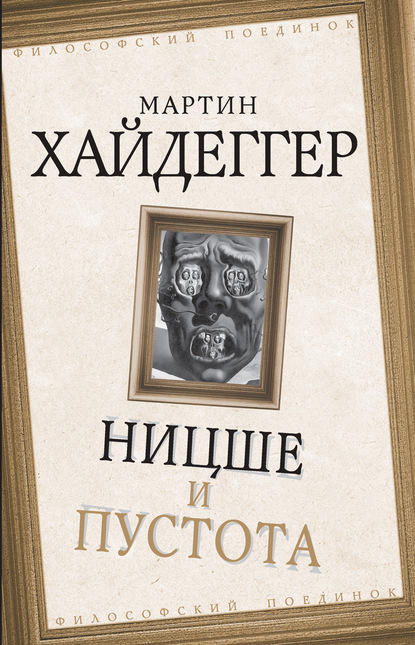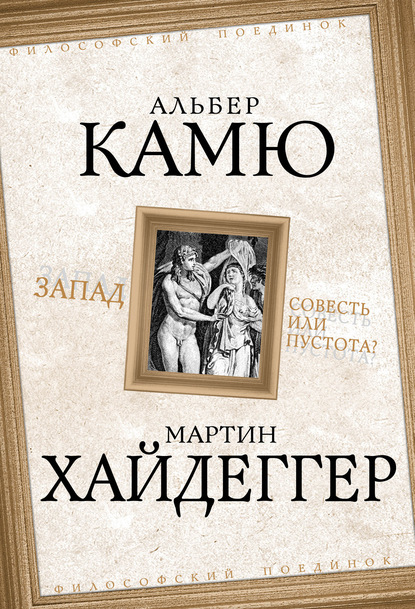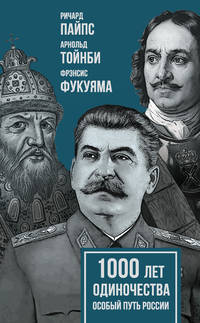Полная версия
Триумф глобализма. Конец истории или начало?

Фрэнсис Фукуяма, Фернан Бродель
Триумф глобализма. Конец истории или начало?
© Бродель Ф. (Braudel F.), Фукуяма Ф. (Fukuyama F.), правообладатели, 2019
© Перевод с французского Л.Е.Куббеля, перевод с английского М.Б.Левина, 2019
© ООО «Издательство Родина», 2019
Предисловие
Фрэнсис Фукуяма (родился в 1952 году) – американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения.
Фукуяма стал известен благодаря книге «Конец истории и последний человек», в которой провозгласил, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой всемирного правительства.
Победа либерального глобализма знаменует собой окончание «исторических» конфликтов между государствами: «Фундаментально невоинственный характер либерального общественного строя очевиден в необычайно мирных отношениях, которые страны с таким строем поддерживают друг с другом.
Либеральные демократии демонстрируют мало недоверия или интереса к господству друг над другом. Они придерживаются одинаковых принципов всеобщего равенства и прав, и поэтому у них нет оснований оспаривать легитимность друг друга». Реальная политика (политика с позиции силы, по определению Фукуямы), соответственно, теряет свое значение. Основным источником взаимодействия между либеральными демократиями останется экономика.
Однако это не означает, что международные конфликты исчезнут раз и навсегда. Дело в том, что во время «триумфального шествия» либеральной демократии мир будет временно поделен на две части: историческую и постисторическую. Последняя будет включать в себя либеральные демократии.
Конфликты между историческими и постисторическими государствами возможны:
«Сохранится высокий и даже все возрастающий уровень насилия на этнической и националистической почве, поскольку эти импульсы не исчерпают себя и в постисторическом мире. Палестинцы и курды, сикхи и тамилы, ирландские католики и валлийцы, армяне и азербайджанцы будут копить и лелеять свои обиды. Из этого следует, что на повестке дня останутся и терроризм, и национально-освободительные войны».
Однако крупных конфликтов между мирами не предвидится, поскольку для этого нужны крупные государства, находящиеся в рамках истории, но они уходят с исторической арены.
Фукуяма полагает, что в большинстве случаев исторический и постисторические миры будут мало взаимодействовать друг с другом и вести почти параллельное существование.
Нефть, иммиграция и вопросы мирового порядка (безопасности) будут возможными точками их соприкосновения.
Взаимоотношения между мирами будет развиваться на основе реалистической политики.
В области внутренней политики Фукуяма выступает активным поборником минимальной роли государства в жизни общества (в особенности в экономике). Излишне сильное правительство, по его мнению, приводит к подавлению гражданского общества, деформации рыночных отношений и даже возникновению «преступных сообществ».
* * *Фернан Бродель (1902–1985) – французский социолог и историк. Яркий представитель французской школы «Анналов», занимавшейся изучением исторических феноменов в социальных науках. Исследуя особенности капиталистической формации, Бродель стал одним из основоположников мир-системной теории.
Основная идея Ф. Броделя заключается в том, что в мировой истории господствуют определенные экономические регионы мира, своего рода «миры-экономики», имеющие центр притяжения и периферию, которая отстает в своем развитии от центра, но осуществляет его в рамках тенденций, присущих центру. При этом следует учитывать то обстоятельство, что центр и периферия в этом случае представляют различные национальные государства. Если же государство покрывало всю территорию мира-экономики и определяло порядок экономической деятельности на всем своем пространстве, то такое сверхгосударство Ф. Бродель называл «империей». Империя оценивается им как мир-экономика, обладающая целым рядом слабостей и недостатков.
Рассматривая Россию, Ф. Бродель отмечал, что она в XVI–XVII вв. если и оставалась «наполовину замкнутой в себе, то происходило это одновременно с громадностью, которая ее подавляла, от ее еще недостаточного населения, от его умеренного интереса к Западу, от многотрудного и без конца возобновляющегося установления ее внутреннего равновесия, а вовсе не потому, что она будто бы была отрезана от Европы или враждебна обменам».
Вместе с тем он считает, что в это время Россия выбрала для себя скорее Восток, чем Запад. В отличие от Европы, продвижение России на восток рассматривается как фактор слабости. «В русской экспансии все было непрочным и неопределенным. Подвиг поразителен, но окружен хрупкими звеньями. Слабости русского мира-экономики поддаются измерению на севере и на западе в противостоянии странам Запада (это само собой разумеется), но также и юге (от Балкан и Черного моря вплоть до Тихого океана) перед лицом двойного присутствия мусульманского и китайского миров».
Все это определило, по мнению Броделя, главные особенности русского государства, присвоившего себе не только полную власть над всеми слоями населения, но и контроль над важнейшими видами обмена.
Фрэнсис Фукуяма
Мировая либеральная революция
Слабость сильных государств
Век пессимизма
Двадцатое столетие – теперь уже можно говорить о нем в прошедшем времени – превратило нас в глубоких исторических пессимистов.
Пессимизм двадцатого столетия составляет резкий контраст с оптимизмом предыдущего. Хотя девятнадцатый век Европы начинался в судорогах войн и революций, в основном это было столетие мира и беспрецедентного роста материального благосостояния. Для оптимизма были две крепкие основы. Первая – вера, что современная наука улучшит людям жизнь, победив бедность и болезни. Природа, давний противник человека, будет покорена современной технологией и поставлена на службу счастью людей. Вторая – что свободное демократическое правление будет распространяться, захватывая одну страну за другой. «Дух 1776 года», или идеалы Французской революции, сокрушат тиранов, автократов и суеверных попов. Слепое повиновение власти будет заменено разумным самоуправлением, в котором все люди, равные и свободные, будут подчиняться не хозяевам, а себе самим.
В свете широкого наступления цивилизации даже кровавые войны вроде наполеоновских могли интерпретироваться философами как социально прогрессивные по своим результатам, поскольку они породили распространение республиканской формы правления. Множество теорий, серьезных и не слишком, выдвигались для объяснения того, каким образом история человечества составляет логическое целое и почему отклонения и повороты ее могут быть поняты как шаги к добру современной эры. В 1880 году некто Роберт Маккензи мог написать такое:
«История человечества – это летопись прогресса, летопись накопления знания и роста мудрости, постоянное движение от низшего уровня разума и процветания к высшему. Каждое поколение передает следующему унаследованные им сокровища, измененные к лучшему его собственным опытом, обогащенные плодами всех одержанных им побед… Рост благосостояния человека, избавленный от прихоти своевластных принцев, подлежит теперь благому управлению великих законов Провидения».
В знаменитом одиннадцатом издании Британской энциклопедии, вышедшем в 1910–1911 годах, в статье «Пытки» было сказано следующее: «В том, что касается Европы, вопрос представляет только исторический интерес». В самый канун Первой мировой войны журналист Норман Энджелл выпустил книгу «Великая иллюзия: Изучение отношения между военной мощью и национальной выгодой», в которой утверждал, что свобода торговли сделала территориальные приобретения ненужными и что война стала экономически нецелесообразной.
Своим крайним пессимизмом наше столетие по крайней мере частично обязано той жестокости, с которой реальность разбила эти ранние ожидания. Первая мировая война явилась решающим событием, подорвавшим самоуспокоенность Европы. Конечно, война свергла старый политический порядок, который представляли монархии Германии, Австрии и России, но куда сильнее был ее психологический эффект. Добродетели верности, трудолюбия, бережливости и патриотизма приводили людей на систематическую и бессмысленную бойню для истребления других людей, тем самым дискредитируя весь буржуазный мир, создавший эти ценности. Как объясняет Пауль, молодой герой романа Ремарка «На Западном фронте без перемен»: «Они [учителя] должны были бы помочь нам, восемнадцатилетним, войти в пору зрелости, в мир труда, долга, культуры и прогресса, стать посредниками между нами и нашим будущим… Но как только мы увидели первого убитого, это убеждение развеялось в прах».
Ему вторит молодой американец, который во время вьетнамской войны пришел к выводу, что «нашему поколению верить следует больше, чем их поколению». И осознание, что индустриальный прогресс Европы мог быть обращен на службу войне без морального искупления или морального смысла, привело к резкому отвержению всех попыток найти в истории систему или смысл. Так, известный британский историк Х.А.Л. Фишер мог в 1934 году написать: «Люди более мудрые, чем я, и более образованные различали в истории сюжет, ритм, заранее задуманную систему. Эти гармонии от меня скрыты. Я вижу только поток бедствий, следующих одно за другим, как волны».
* * *Как потом оказалось, Первая мировая война была только предисловием к новым видам зла, которым предстояло вскоре возникнуть. Если современная наука открыла возможность создавать оружие беспрецедентной разрушительной силы, такое как пулемет и бомбардировщик, то современная политика создала государство беспрецедентной власти, для которого придумано было и новое слово – тоталитаризм. Опираясь на действенные полицейские силы, массовые политические партии и радикальные идеологии, стремившиеся взять под контроль все аспекты человеческой жизни, эти государства нового типа рвались к осуществлению проектов колоссального честолюбия – их не устраивало ничего меньше мирового господства. Акты геноцида, осуществленные тоталитарными режимами гитлеровской Германии и сталинской России, не имели прецедентов в мировой истории, и во многих отношениях лишь современность дала им возможность осуществиться.
Конечно, бывали кровавые тирании и до двадцатого столетия, но Гитлер и Сталин поставили на службу злу современную технику и современную политическую организацию. У «традиционных» тиранов не было технической возможности планировать уничтожение целого класса людей, как евреев в Европе или кулаков в Советском Союзе. Эту работу сделали возможной лишь технический прогресс и общественные движения предыдущего столетия. Войны, развязанные этими тоталитарными государствами, также были войнами нового типа, с массовым уничтожением гражданского населения и экономических ресурсов – отсюда и термин «тотальная война». Чтобы защититься от этой угрозы, либеральным демократиям пришлось применить такие военные методы, как бомбежка Дрездена или Хиросимы, которые в более ранние времена были бы названы массовым убийством.
В девятнадцатом веке теории прогресса связывали человеческое зло с отсталостью. Но пусть сталинизм возник в отсталой, полуевропейской стране, известной своим деспотическим режимом, – зато Холокост произошел в стране с отлично развитой промышленной экономикой и одним из самых культурных и образованных народов в мире. Если такое могло произойти в Германии, почему оно не может случиться в любой другой развитой стране? А если экономическое развитие, образование и культура не дают гарантии от такого явления, как нацизм, то в чем же смысл исторического прогресса?
Опыт двадцатого столетия поставил под большой вопрос заявления о прогрессе на основе науки и техники, поскольку способность технического прогресса улучшать людям жизнь неотделима от параллельного морального прогресса человека. Без этого мощь техники просто будет обращена на цели зла, и человечество станет хуже, чем было прежде. Тотальные войны двадцатого века не были бы возможны, если бы не основные достижения промышленной революции: железо, сталь, двигатель внутреннего сгорания, самолет. А со времен Хиросимы человечество живет под тенью самого страшного научного достижения в истории: ядерного оружия. У фантастического роста экономики, возможность которого создала современная наука, есть и обратная сторона, поскольку этот рост привел к серьезным повреждениям окружающей среды во многих частях света и создал вероятность глобальной экологической катастрофы. Часто утверждают, что глобальная информационная технология и немедленная связь способствуют распространению демократических идеалов, как было в случае освещения СNN на весь мир событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году или последующих революций в Восточной Европе в том же году. Но сама по себе технология связи нейтральна. Реакционные идеи аятоллы Хомейни были ввезены в Иран до революции 1978 года на магнитофонных кассетах, а сами магнитофоны стали доступны населению в результате экономической модернизации, предпринятой шахом. Если бы в тридцатых годах существовали телевидение и спутниковая связь, они бы отлично послужили таким пропагандистам нацизма, как Лени Рифеншталь и Йозеф Геббельс.
* * *Болезненные события двадцатого века послужили фоном и для глубокого кризиса мысли. Говорить об историческом прогрессе возможно, только если говорящий знает, куда идет человечество. Большинство европейцев девятнадцатого века думали, что прогресс – это движение в сторону демократии. Но в нашем столетии по этому вопросу уже нет консенсуса. Либеральной демократии бросили вызов два главных соперника – фашизм и коммунизм, – предложивших радикально отличные взгляды на хорошее общественное устройство.
В наше время одним из самых явных проявлений пессимизма была почти поголовная вера в то, что жизнеспособная коммунистически тоталитарная альтернатива западной либеральной демократии будет существовать вечно. В семидесятых годах Генри Киссинджер, бывший тогда государственным секретарем, предупреждал своих сограждан: «Сегодня, впервые в нашей истории, мы смотрим в глаза суровой реальности: этот [коммунистический] вызов не исчезнет… Мы должны научиться вести внешнюю политику так, как приходилось вести ее другим государствам много веков: без уклонения и без передышки… Эти условия не переменятся». Согласно Киссинджеру, утопией было бы пытаться реформировать фундаментальные политические и общественные структуры враждебных держав вроде СССР. Политическая зрелость означает умение принимать мир таким, каков он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть, а это значит, что надо уживаться с брежневским Советским Союзом. И хотя конфликт между коммунизмом и демократией можно приглушить, ни его, ни вероятность апокалипсической войны исключить до конца нельзя.
Взгляды Киссинджера никак не были уникальны. Почти любой профессионал в области изучения политики вообще и внешней политики в частности верил в вечность коммунизма, и его падение во всем мире в конце восьмидесятых было почти абсолютно неожиданным. Эта слепота была не только результатом влияния идеологической догмы на «бесстрастный» взгляд на события. Она охватила людей любой политической окраски – левых, правых, центр, журналистов, ученых, политиков и Востока, и Запада. Корни этой слепоты уходят куда глубже обыкновенной пристрастности, в необычайный исторический пессимизм, порожденный событиями века.
Конечно, верования в легитимность и вечность коммунизма принимали порой причудливые формы в дни «холодной» войны, уходящие в прошлое. Один талантливый исследователь Советского Союза отстаивал мнение, что Советский Союз под правлением Брежнева достиг того, что автор назвал «институциональным плюрализмом», и утверждал: «Создается впечатление, что советское руководство подвело Советский Союз чуть ли не ближе к духу плюралистской модели американских социальных наук, чем подошли сами Соединенные Штаты». Оказывается, советское общество в догорбачевский период не было «инертно и пассивно; оно было обществом участия почти в любом смысле этого слова», и советские граждане «участвовали» в политике в большей пропорции, чем граждане США.
Имеется в виду, что, несмотря на все очевидные проблемы общества, коммунистические правители выработали «общественный договор» со своими народами – до некоторой степени эта точка зрения пародировалась советским анекдотом: «Мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят». Эти режимы никогда не были ни продуктивными, ни динамичными, но говорилось, что они правят в определенной степени с общего согласия, потому что обеспечивают безопасность и стабильность. Как писал в 1968 году политолог Сэмюэл Хантингтон:
«В Соединенных Штатах, Великобритании и Советском Союзе формы правления различаются, но во всех трех системах правительство правит. Каждая из этих стран представляет собой политическую общность, где подавляющее большинство народа считает свою политическую систему легитимной. В каждой из них граждане и их лидеры одинаково понимают общественные интересы, традиции и принципы, на которых эта политическая общность строится».
Сам Хантингтон коммунизму не симпатизировал, но считал, будто факты обязывают нас к выводу, что коммунизм сумел за годы своего существования заслужить до некоторой степени одобрение народа.
[Однако] события второй половины двадцатого века пошли в неожиданном направлении. Главным среди сюрпризов, случившихся в недавнем прошлом, был полностью неожиданный крах коммунизма почти по всему миру в конце восьмидесятых. Но такой поворот событий, как бы поразителен он ни был, явился лишь элементом куда более масштабного процесса, развернувшегося после Второй мировой войны. Авторитарные диктатуры всех видов, правые и левые, рушились. В некоторых случаях они освобождали место процветающим и стабильным либеральным демократиям, в других на место авторитаризма приходила нестабильность или иная форма диктатуры. Но вне зависимости от того, возникала или нет либеральная демократия, авторитаризм всех мастей испытывал во всем мире серьезный кризис.
В первую треть двадцатого столетия главной политической новацией явилось создание сильных государств – тоталитарных Германии и России; последние несколько десятилетий показали неимоверную слабость в самом ядре сильных государств. И эта слабость, столь огромная и неожиданная, наводит на мысль, что уроки пессимизма, преподанные историей нашего века, следует переосмыслить с самого начала.
Слабость сильных государств
В ретроспективе мы видим, как было трудно осознать глубину кризиса, в котором диктатуры оказались жертвой ложной веры в способность авторитарных систем вечно поддерживать свое существование, или, говоря более широко, в жизнеспособность сильных государств. Государство либеральной демократии слабо по определению: охрана сферы прав личности означает резкое ограничение власти государства. Авторитарные режимы, как правые, так и левые, наоборот, используют власть государства для проникновения в частную жизнь и контроля се с различными целями – укрепление военной силы, строительство эгалитарного общественного порядка или осуществление резкого экономического роста. То, что теряется при этом в царстве личной свободы, должно быть обретено на уровне национальных целей.
При последнем анализе выясняется, что ключевой слабостью, которая в конце концов и обрушила эти сильные государства, была неспособность к легитимности – то есть кризис на уровне идей. Легитимность – это не справедливость или право в абсолютном смысле; это относительное понятие, существующее в субъективном восприятии людей. Все режимы, способные к эффективным действиям, должны быть основаны на каком-то принципе легитимности. Не бывает диктатора, который правит исключительно «силой», как часто говорилось, например, о Гитлере. Тиран может силой подчинить себе своих детей, стариков, может быть, свою жену, если он физически сильнее их, но вряд ли он сможет управлять таким образом двумя или тремя людьми, и уж тем более не многомиллионным народом.
Когда мы говорим, что такой диктатор, как Гитлер, «правил силой», мы имеем в виду, что пособники Гитлера, в том числе нацистская партия, гестапо и вермахт, были способны физически запугать превосходящее их население. Но почему эти пособники были верны Гитлеру? Уж точно не из-за его способности их физически напугать: эта верность основывалась на вере в его легитимную власть. Аппарат безопасности тоже может управляться запугиванием, но в какой-то точке системы диктатор должен иметь преданных подчиненных, которые верят в легитимность его власти. То же верно относительно самого испорченного и прожженного босса мафии: он не станет капо, если его «семья» не примет на какой-то основе его «легитимности». Как объяснял Сократ в «Республике» Платона, даже в банде грабителей должен существовать какой-то принцип справедливости, на основании которого можно поделить добычу. Легитимность поэтому является краеугольным камнем даже самой несправедливой и кровожадной диктатуры.
Легитимность диктатора может исходить из многих источников: от персональной верности со стороны лелеемой армии до изощренной идеологии, оправдывающей его право на власть. В нашем столетии наиболее важной систематической попыткой организовать логически цельное, правого политического толка, не демократическое и не эгалитарное общество был фашизм. Фашизм – это не «универсальное» учение, как либерализм или коммунизм, поскольку он отрицает существование единого человечества или равенства человеческих прав. Фашистский ультранационализм утверждал, что изначальным источником легитимности является раса или нация, конкретнее – право «расы господ», например немцев, править всеми прочими. Сила и воля превозносились над рассудком или равенством и сами по себе считались правом на власть. Нацистское утверждение о немецком расовом превосходстве должно было быть активно доказано в конфликте с другими культурами. Война, следовательно, являлась положением не патологическим, а нормальным.
Фашизм не просуществовал достаточно долго, чтобы заболеть внутренним кризисом, – он был сокрушен вооруженной силой. Гитлер и оставшиеся его приближенные приняли смерть в своем берлинском бункере, веря до конца в правоту нацистского дела и в легитимность власти Гитлера. Впоследствии привлекательность фашизма была подорвана в глазах многих в результате этого поражения. То есть Гитлер основывал свое право на власть на обещании мирового господства, а вместо этого немцы получили ужасающие разрушения и оккупацию расами, которые считались низшими. Фашизм был крайне привлекателен не только для немцев, но и для многих людей во всем мире, когда это были только факельные шествия и бескровные победы, но становился весьма неприглядным, когда внутренне присущий ему милитаризм доводили до логического конца. Фашизм, можно сказать, страдал от внутреннего противоречия: его упор на милитаризм и войну неизбежно вел к гибельному для него конфликту с международным сообществом. В результате он не мог составить серьезной идеологической конкуренции либеральной демократии после конца Второй мировой войны.
* * *После поражения Гитлера правой альтернативой либеральной демократии осталась только группа устойчивых, но в конечном счете не последовательных военных диктатур. Большая часть этих режимов не ставила себе более амбициозных целей, чем сохранение традиционного общественного устройства, и главной их слабостью был недостаток приемлемой долговременной базы для легитимности.
Никто из них не мог сформулировать для нации, подобно Гитлеру, последовательную доктрину, которая оправдала бы постоянное авторитарное правление. Все они вынуждены были принять принципы демократии и народного суверенитета и утверждать, что их страны – по разным причинам – к демократии пока не готовы: то ли из-за угрозы со стороны коммунизма и терроризма, то ли из-за экономических неурядиц, оставленных в наследство прежним демократическим режимом.
Каждый такой режим объявлял себя переходным, подготавливающим окончательное возвращение демократии.
Крах Советского Союза
Наверное, не должно удивлять, что авторитарные деятели правого толка потеряли власть из-за идеи демократии. Власть в самых сильных государствах правых была на самом деле довольно ограниченной, когда дело касалось экономики или общества в целом. Их лидеры представляли традиционные социальные группы, которые становились в обществе все более маргинальными, и правящие генералы с полковниками обычно бывали лишены идей и интеллекта. Но как обстоит дело с коммунистическими тоталитарными державами, с левыми? Не переопределили ли они значение термина «сильное государство» и не нашли ли формулу вечно самоподдерживающейся власти?