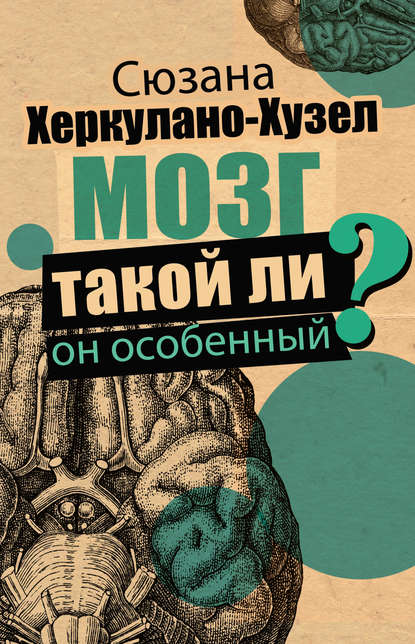Полная версия
Магия мозга и лабиринты жизни
В конце концов что-то узнавалось, разыгрывались трагедии, но все потом как бы возвращалось «на круги своя», никакой «реструктуризации» (модный сейчас термин) не происходило, хотя в острые моменты жертвы таких «открытий» были по-взрослому несчастными, по-детски остро воспринимая неразрешимые несправедливости: любимые папа и мама – враги народа! Не может этого быть, это ошибка. Да, другие – может быть. Но не мои, это ошибка, ошибка, все обязательно выяснится, вот увидите. Но, как известно, не увидели…
Сначала очень ждали родителей. Вот разберутся в ошибке – и папа вернется, все будет по-старому. Потом – все меньше и меньше. Но ни на минуту в голове моей не мелькнула мысль, что мой папа, моя мама – враги. Что бы ни говорили вокруг. Мама из самых лучших чувств вначале написала мне, что в лагере ей придется быть пять лет. Считая годы, я была уверена, что в институт я буду ходить уже из дома. Через несколько лет появилась новая цифра – восемь лет. И я в одночасье поняла, что свою судьбу надо строить самой: я одна. Папа? Я ждала его до конца 50-х. В середине 50-х получила какую-то серенькую справку о полной реабилитации, о том, что он умер в лагере в 1943 году. А вскоре «добрые» дяди из КГБ сказали мне, что он расстрелян. Внешне да и, пожалуй, внутренне я отнеслась к этому спокойнее, чем можно было ожидать, – я просто не поверила.

Папа – Петр Владимирович Бехтерев
К этой мысли поначалу почему-то надо было привыкать. Даже думалось: лучше сразу, чем пять страшных лет лагерей особого режима и все-таки расстрел, – ведь в год Сталинградской битвы лагеря «очищали». А когда постепенно поверила, да еще прочла личное дело, думаю, что неожиданный для обвиняемого – еще чувствующего, не омертвевшего от холода, голода и унижений человека – расстрел ужасен… Помните: «Но Боже правый! Ложась безвинным под топор, врага веселый встретить взор и смерти кинуться в объятья…»? И следующую строчку из Пушкина. Спустя столетие все повторилось – недаром так много людей борется за запрещение смертной казни. Но, кажется, мы не так сейчас богаты, чтобы весь сегодняшний разгулявшийся криминал, в том числе криминал как результат «свободы», безработицы и нищенской зарплаты, взять на пожизненное иждивение. Трудно сейчас развернуть наше общество в сторону созидания. Оказалось, что слишком много есть способов отнять у бедняков последнее – без существенной затраты труда. А созидание – это всегда труд, в зависимости от технического уровня общества и таланта людей – больший или меньший личный труд.
…Те страшные и противоречивые годы растили поколения, жившие по лозунгам и принимавшие ярлыки, навешиваемые на целые области науки. Но в 40–50-е годы находились все-таки еще ученые, для которых научная истина была неизмеримо дороже чечевичной похлебки. В те же 40-е народ, воспитанный на победных маршах, нашел в себе силы вышвырнуть фашистскую нечисть с нашей земли. И это вопреки тому, что практически обезглавлена была не только армия, но и военная промышленность, что многие из тех, кто на века прославил доблесть русского оружия во Второй мировой войне, вышли на поле боя непосредственно из мест заточения. Народ остановил врага уже у Волги, хотя постоянно слышал, что мы не отдадим и пяди своей земли. В конце концов, действительно не отдали. Но страшной ценой – ценой миллионов человеческих жизней, не говоря уже о культурных ценностях!
Оттепель 50-х коснулась науки, в которой я уже жила, – физиологии. В целом ей хоть и досталось на так называемой Объединенной сессии АН СССР и АМН СССР, все же сравнительно с биологией и особенно генетикой (вспомним предшествующую сессию ВАСХНИЛ) много, много меньше. Как ни парадоксально, наши беды шли от насильственного повсеместного внедрения идей и обмолвок действительно великого ученого – И. П. Павлова. Беды генетики обернулись закрытием целой области науки – во славу современной алхимии.
Мы буквально купались в этой оттепели, ошибочно приняв ее за море – море новых, невиданных свобод, а самое главное – свобод, установленных навечно! Чего, как известно, не бывает. Свобода более хрупка, чем диктатура, ей нужна поддержка всех и каждого.
Годы жизни в науке кое-чему научили меня, и прежде всего тому, что хорошо знали ученые и раньше. Научили уходить в работу от мелких сложностей жизни, садиться за письменный стол, чтобы отдохнуть, перейдя в другое измерение, недоступное житейскому. И ни судьбы 30–40-х годов, ни собственный жизненный опыт не подсказали мне, что жизнь общества и возможности фронта – именно фронта – науки крепко-накрепко связаны. Что вся наука может вновь стать столь же уязвимой, как человек, как маленькая и большая группы людей.
Павловцы уже начали вновь творчески развивать наследие великого отечественного гения. Мы, «остальные», опомнившись от «опрощения», уже стали кое-где работать вровень с мировой наукой, обогащаясь ею и обогащая ее. Мировая наука начала выделять из нашей среды тех, кто не оказывался лишь директивным гастролером на ее арене, завязывались долгосрочные контакты. Мы стали получать информацию «из первых рук».
Что-то в нас все же было такое, что заставляло все время, часто почти автоматически, отслеживать возможные девиации от того, что считалось материализмом, а по существу – познаваемым не вообще, а именно сегодня. Но сознание того, что это «что-то» было, пришло позже, да и то далеко не ко всем.
А в целом наше мироощущение с середины 50-х и в 60-х соответствовало лозунгу «Все страшное – позади». Мы шли вперед без оглядки на национальные и глобальные проблемы. Это было почти «хорошим тоном», почти признаком настоящего ученого.
Поневоле, однако, в этой отрешенности от общей судьбы поверишь в «сглаз». Безоглядно увлекшись молодой тогда физиологией мозга человека, 2 марта 1967 года – хорошо помню это число – я определила себя как человека счастливого. Несмотря ни на что и применительно к марту 1967 года. Сглазила? А что это такое? По-моему, при целенаправленном сужении сознания это – недооценка динамики множества внешних (а в другом случае – и внутренних) факторов. Хотя это, конечно, неполное определение.
Между тем оттепель прошла. В. И. Гребенюк, председатель комиссии Ленинградского обкома партии по разбору написанной на меня анонимки, в ответ на мое естественное удивление тому, что происходит, стал угрожать стереть меня в порошок, превратить в лагерную пыль. За что? За непонимание ситуации, за свою линию, просто за непокорность… Вот так, в моем же служебном кабинете, в 1967 году мне были уже адресно воспроизведены известные слова Лаврентия Берии…
Анонимку, при всех стараниях комиссии, подтвердить не удалось ни по одной позиции, хотя «дело» длилось пару месяцев. Никто не извинился передо мной – это уже вновь было не принято.
Только тот, кто пережил такого безымянного врага, в состоянии полностью оценить значение запрета разбора анонимок, восстановление петровского завета: «Подметные письма, не вскрывая, жечь!»

На заседании Международного симпозиума «Глубокие структуры мозга в норме и патологии». Ленинград, 1966 год. Председатели – Н. П. Бехтерева (СССР) и Грей (Англия)
Несмотря на полное торжество правды, что-то очень важное тогда сломалось во мне. Живу, работаю и помню, что это все было, было. Было в году 1967-м, в период правления такого внешне добродушного, бровастого звездоносца… Теперь мой мозг, моя память знают, что предсмертное завещание Юлиуса Фучика: «Люди! Будьте бдительны!» – относится не только к фашизму. Оно – к проблеме ядерной угрозы. Оно – к антидемократии. И оно же – ко всем нам как предупреждение.
Отвечаю за сделанное. А после 1967 года, несмотря на требование разума, может быть, чуть-чуть меньше, – за несделанное. Оберегала все эти годы свою науку (а значит, и себя, своих сотрудников и учеников) от всего, что может скомпрометировать ее. Нейрофизиология мышления, корреляты эмоций – все это изнутри мозга. Не оставлявшее многие годы чувство края пропасти. А поэтому – подальше от экстрасенсов, от вещих снов, от парапсихологии, в том числе от гипноза и внушения. Нет подходов, неясно, невоспроизводимо, не существует. Пожалуй, такая позиция не подходит к гипнозу и внушению. Феномен произвольно воспроизводим, а поэтому можно в нем разбираться. Но это – только сейчас… Неясно лишь, куда девать эпизодически проявляющиеся у самых разных людей так называемые паранормальные способности: опережающие сны, предвидение будущего, диалоги с молчащим собеседником – в мешок и в воду?
Надеюсь, что в конце концов найдутся подходы и к «странным» проявлениям мозга. По ходу исследований, может быть, окажется возможной полная расшифровка мыслительного кода. Ведь в том, что под идеальным – мышлением – лежит (подлежит) вполне материальное, нет сомнений. Однако для того, чтобы мы, не боясь ярлыков, заглядывали в научные пропасти, а не только ходили по их краю, необходимо, чтобы общество было по-настоящему свободным, свободным от ненужных, неоправданных запретов, а жизнь в этом обществе – свободной от ужаса ядерной катастрофы и нарушения прав человека. Все это абсолютно необходимые условия для реализации бесконечных возможностей человеческого мозга, в том числе в познании самого себя.
Так как же, несмотря на все…
Это, наверное, лучшее свойство живых существ – ненаследование условных рефлексов, потеря опыта родителей при рождении нового человека. Я никогда ни от кого не слышала такой оценки этого положения. Обычно факт просто констатируется или говорится о том, что передается известное предрасположение (и я, и дед грешны!), или факт оспаривается. Но, Боже мой, как я счастлива, что 30-е и 40-е годы мой сын и его товарищи знают лишь по рассказам! Когда мы приобретаем знания, опыт, всегда жаль, что их не передать. Что ж! Пишите книги, пойте песни, растите учеников – передавайте накопленное из уст в уста. Любые искажения при такой передаче все равно лучше наследования опыта.
Природа много мудрее нас. Представьте себе победителей и побежденных. Агрессия и страх, в постоянном взаимном усилении по мере смены поколений, давно бы стерли с лица нашей планеты все, что можно уничтожить, убили бы в зародыше любую мысль. А если бы мы передали нашим детям страх ночного стука в дверь и беседы с другом?.. К счастью, просто страх не передается следующему поколению, хотя, как хорошо известно, есть целые генерации более или менее смелые. А в течение жизни, и тоже, конечно, к счастью, страх (даже если это не страх, а ужас) бывает чаще всего не глобальным, а парциальным. Страх чего-то, страх многого. И только иногда – страх всего, всепоглощающий страх неминуемой гибели.
О чем здесь идет речь? Кое-что можно перевести на язык физиологии. Всепоглощающий генерализованный страх ведет к тому, что мозговой базис, на котором должна была бы осуществляться наша интеллектуальная деятельность, изменяется везде – или почти везде. Зоны мозга, группы нервных клеток не могут включаться в мыслительную деятельность. Человек лишается творческой мысли – этого прекраснейшего из своих достояний.
А если рассмотреть вопрос в другом аспекте, в аспекте того, как же возрождается мысль? Как творит – пером или кистью, сидя за мольбертом или за компьютером – человек, переживший кровь войны и трагедию самых разных форм насилия?
Человек, лично переживший трагедию страха (ужаса), или ломается как личность – полностью или частично – в связи с фиксацией в долгосрочной памяти страха и соответствующего состояния мозга, или выходит из этого состояния – иногда благодаря лечению, а в планетарном масштабе чаще всего путем использования своих собственных защитных механизмов. Эти механизмы у многих включаются сразу или как бы ждут малейшего благоприятного изменения режима работы мозга, чтобы начать делать свое благое дело.
Переживания ужаса от предыдущих поколений последующим не передаются. Об этом говорят физиологи. Но как только копнешь в глубину, ну, например, в биохимическую расшифровку физиологических явлений, так возникают сомнения. Может быть, все-таки что-то, физиологически неуловимое, проходит через барьер поколений? Конечно, лучше бы насилие, агрессию и прочие беды запрятать подальше. Так спокойнее, надежнее. Мне могут возразить: страх передается и через литературу, историю, средства изобразительного искусства. Да, в массовых масштабах они могут даже сформировать невроз фобического типа или депрессию. Особенно в этом плане активна идея всеобщей ядерной катастрофы. А в обычных масштабах «собака Баскервилей» детства легко забывается, и только очень впечатлительные (эмоционально не сбалансированные) дети долго боятся темноты и одиночества – условий, когда обычные источники мозгового тонуса уменьшаются и темные силы отрицательных эмоций свободнее гуляют по незащищенному мозгу.
И все-таки о чем все это? Это своеобразная антитеза мажорной трагичности предыдущей главы книги. Да, мы не только выживаем, даже тогда, когда очень трудно, но после этого творим, и на нас не лежит наследственный груз страха и печали. Печаль о происшедшем и прошедшем трогает нас через разум, а эмоции в этом случае развиваются в связи с опосредованным воздействием извне, а не изнутри организма. Но как хорошо бы завоевать миру сейчас, немедленно жизнь без социально детерминированных страхов, горестей, трагедий, реализовать прекрасную утопию! Все равно ведь останутся – для оттенения радостей – болезни, смерти, неразделенная любовь, справедливая и несправедливая двойка и многое другое, от чего уж никак не укрыться человеку.
Творчество является одним из высших, если не самым высшим, свойств мозга. Увидеть мысленно то, чего не было, услышать музыку, которой нет… Одним из высших – но и уязвимых… Что же еще, кроме механизмов мозговой самозащиты, кроме того, что каждый новый живой человеческий росток потенциально может быть бесстрашным, сохраняет творческий потенциал человечества?
Родители! Если уж вы, во имя мимолетной встречи или «эпохальной» любви, произвели на свет новое существо, помните, что ваши обязательства перед ним ничуть не меньше, чем перед обществом в целом. Ибо «общество в целом» всегда складывается из отдельных людей, из нас, тех, кто рядом с нами, и тех, которые придут нам на смену. Через всю жизнь проносит человек свое детство, и хорошо, если оно дает ему силу. Детям очень нужны любовь и радость. Ведь радость противостоит страху и унынию. Развеселите огорченного малыша, окружите его любовью.
Что значит окружить любовью? Все прощать, зализывать все ранки? Считать, что все, кто не согласен с моим детенышем (а детство может длиться долго, очень долго), – все плохие, все виноваты? Он один всегда прав? Конечно, нет. Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью[1].
Расскажу две истории. Было у родителей трое детей. Они были не близнецы, а соответственно: старший, средний и младший. Младший был много младше, и потому, когда он увидел свет, произошла четкая дифференцировка родительских отношений. «Он – маленький, понимаете, дети, маленький!!» Сгладилась до того бывшая заметной разница в отношениях к двум старшим. Оказались в семье двое детей и… маленький. Налетел социальный ураган, разнес по свету всех – и старших, и маленького, четырехлетку. Отец не вернулся, его вскоре не стало. А мать через страшные и долгие семь лет вновь взяла к себе маленького. И все пошло по новому кругу. Теперь уже просто из-за болезненной любви матери, которая стремилась к маленькому все эти годы и обняла наконец, укрыла, как она думала, совсем по Сольвейг, «от бед и от несчастий» (Г. Ибсен. «Пер Гюнт»).
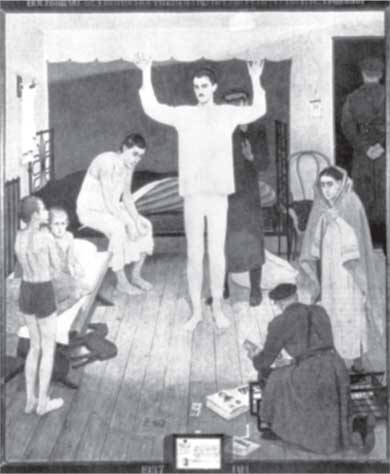
Картина художника Д. Д. Жилинского «1937 год»
Я знаю почти конец этой истории. Маленький был красив и одарен, но ничего не должен жизни – так его воспитала мать с ее святой, всепоглощающей любовью. Жизнь, как он себе это представлял, ему была должна все. Плохо только, что жизнь-то об этом ничего не знала, а потому долгов своих отдавать никому не собиралась. Сошел маленький раньше старших с круга, да и болеть стал. Увяла прежде времени красота, ушла уверенность, стерлась и разница в возрасте – не календарная, биологическая – между старшими и младшим.
А что дало силу старшим? Мать была моложе, когда они появились на свет, много внимания она уделяла своей личной жизни, ситуация была сбалансированной, и поэтому старший особенно хорошо знал: он должен, должен, должен! Должен – встать, одеться, умыться, учиться – и сейчас, и потом. Должен – через военные пересадки – а как их много, они такие трудные, каждый раз кажется, что уж это конец, – через багажные полки вагонов (кстати, прекрасно!), через крыши вагонов (страшновато!) ехать в лагерь к матери – и чтобы повидаться, и чтобы поддержать, – и должен заботиться о маленьком. Разве не любила старших детей мать? Конечно, любила. Но любила человеческой любовью, которая и дает силы для будущей жизни, и готовит к ней. А маленький купался в биологической любви, не признающей ни долга, ни обязанностей, да так и не адаптировался к жизни.
Итак, любите не человечество, а человека, ребенка, собаку, кошку – но, пожалуйста, умейте любить. Помните, что любовь – это долг, это труд, с видением и предвидением пополам. Моя прабабка не могла учить всех своих троих детей (выше речь шла не о ней). «Будем учить Володьку». Дальше – и ранний отъезд юноши в чужой город, и раннее участие в войне… Стал Володька, который все был «должен», Владимиром Михайловичем Бехтеревым… А любила ведь его мать…
Первую историю можно прочесть и иначе. Поздний ребенок… В научно-фантастической литературе уже есть запреты на поздних детей. В жизни все гораздо сложнее. Если в медицинской литературе это проблема здоровья, выносливости позднего ребенка, то в жизни – еще и измененная годами психология родителей. Верю, что очень нужен свод правил, заповедей – как готовить ребенка к жизни, да так составленный, чтобы впечатлял. Выкинув из нашей жизни религию, мы избавились не только от мощнейшей психотерапии, но и от свода нравственных правил… Да еще как умело подаваемых!
За руку с мамой на прогулку. «Вырасту – пойду в техникум». – «Никакой не техникум, а институт, тебе – институт. Видишь, как тебе все легко дается? Вот и пойдешь в институт.

Мама – Зинаида Васильевна Бехтерева
И будешь ученым». И пошла, через детский дом, через блокадную снежную зиму. Шла каждый день: «Вот дойду до моста – и назад, в детский дом» (мост – Троицкий – тогда Кировский), «Дойду до середины – и домой». Ветер, ветер, ах, какой ветер! Пусть бы любой мороз – только бы не ветер! А на мосту всегда ветер. По-моему, он там просто прописан. Дошла до середины пути: «А теперь все равно куда, уж пойду вперед – вперед привычнее» (легче по генотипу, наверное). И так – ежедневно, шесть дней в неделю, до опасной весенней дороги по Ладожскому озеру.
Что же вело меня? Желание получить высшее образование? Да не было у меня в замерзшей голове таких мыслей. Была, действовала и вела сформированная мамой в раннем детстве матрица памяти. Конечно, были еще и другие факторы. В детском доме, чтобы не быть отправленной после семилетки для «исправления сознания», как дочери «врагов народа», на кирпичный завод, надо было стать совсем-совсем первой ученицей – это было так легко! Но «надо», помноженное на легкость учебы, укрепляло матрицу памяти, а не воевало с ней – укрепило ее, сделало каменной оградой. И все-таки определяющим было: «Учить будем Володьку, толк будет»; «В институт пойдешь, запомни – в институт, твоя дорога – наука». И это не был вопрос престижности высшего образования. Мы все трое кончили вузы, но твердила об этом мама мне одной. И гораздо больше, чем у остальных двоих, было у меня поводов «сойти с дорожки». Как хотелось мерзлой первой зимой войны не вылезать из-под одеяла! А я шла: через мост, сквозь ветер… Как физиолог я должна сказать, что делала это в какой-то мере так, как выполняют свою жизненную программу муравьи, пчелы, бобры… Только они – на основе памяти генетической, я – на основе впечатанной на много десятков лет вперед матрицы долгосрочной памяти. Матрицы, в которую мама запрограммировала мою первую жизненную стратегию!
Сколько всего написано о войне! Война, как и все масштабные потрясения, имеет для каждого по крайней мере два лица: общее – для большой группы людей, вплоть до целой страны, и индивидуальное, личное. И общее, и индивидуальное описаны гораздо лучше, чем я когда-либо смогла бы это сделать. Но никто лучше меня не знает моего, личного лица страшной Второй мировой войны, и в моей книге хоть несколько строчек – и об этом.
22 июня 1941 года мы с детским домом были на даче. Еще до объявления войны поползли какие-то слухи о том, что уже идет война, что-то происходит необычное. Но как всегда в эти прошедшие годы: «Не верьте слухам, это враг (какой?) распространяет их». И наверное, только краткость срока до настоящего объявления войны смела эту предысторию в мусорную корзинку времен.
Я гуляла в маленьком лесочке, через который проходила дорожка к центру поселка. Неширокая, совсем не главная. Навстречу мне шла пара – я определила девушку и юношу как удивительно счастливых, влюбленных друг в друга. Девушка была редкостно хороша собой – какая-то очень светлая и яркая: яркие глаза, яркий румянец, яркая улыбка. Мне было 16, я смотрела на нее во все глаза – любовалась ею и, наверное, слегка завидовала. Занятые друг другом, они никого не замечали, как будто и шли куда-то, где им будет так же хорошо или еще лучше.
Прозвучала по неизвестно откуда взявшейся «тарелке»-радио в 12 дня речь Молотова. Я слушала ее – и весь ужас будущего был для меня еще нереален. И вдруг я увидела тех же двух людей, возвращавшихся по той же тропинке. Но уже совсем других. Ясновидением любви девушка прочла очень вероятную судьбу друга – и рыдала, рыдала, все время пытаясь успокоиться, взять себя в руки, – и не могла.
Как в первую встречу, несколько минут назад, я определила для себя их одним словом – «счастье», так во вторую, глядя на них, у меня в мозгу вспыхнуло страшное слово – «потеря» – потеря, потеря… Еще они вдвоем – и уже цепь будущего прервана, может быть, насовсем, того, что было только что, нет, нет, нет совсем. А именно потому, что оно было, так громко стучит у меня в мозгу – потеря…
2 февраля 1999 года смотрела я фильм о Сталинграде. Не первый, конечно, фильм о войне. Но опять ожила старая боль: падает на землю солдат, умирает генерал, и все это потеря – потеря отца, сына, мужа, брата, любимого и любимой – женщины тоже гибли в войну… Потеря как общая и личная, жгучая, неутихающая боль.
Шли тяжелые, свинцовые дни 41-го, 42-го, 43-го. У нас, в Ленинграде, в детском доме, на фронт ушел наш любимый директор Аркадий Исаевич и вскоре погиб. Нам назначили другого – нет у меня ни одного хорошего слова в его адрес. Перед каждой скудной едой – но все-таки едой, которая, мы знали, сейчас дымится на столах, – стоим мы на линейке. Стоим, пока наша еда не замерзнет, – слушаем монолог садиста-директора о том, как надо есть, как надо пережевывать пищу, и снова – как надо есть и т. д. Он уже позавтракал (поужинал, пообедал), причем позавтракал досыта: он всегда требовал, чтобы тарелка была «с верхом», ведь дело у него такое ответственное – руководить всеми нами…
И все говорил, говорил… Он никогда не кричал, он только говорил, но вспомнить страшно, как мы его все ненавидели!
Когда мы проехали на машинах в марте 42-го через Ладогу, на поезде – до Ярославля (поезд ехал больше недели) и наконец приехали к месту назначения – небольшому селу на берегу Волги, нам, как блокадникам, надбавили какие-то копейки на питание. «Патриот»-директор отказался от этой надбавки – «все для фронта» – и по-прежнему держал, как и в Ленинграде, всю свою немалую семью на нашем пайке.
Кажется, до 50-х годов я никак не могла наесться досыта, мне все время хотелось есть. Да и всем блокадникам так. Но в моем уже не чисто физическом, а и психологическом голоде была большая «заслуга» нашего директора со скромной фамилией Иванов.
Ненависти в самую тяжелую зиму 1941/42 года было много во всех – и в нас тоже. Ненависть к врагу, к фашистам – общая со всеми, ненависть к директору – наша. Но по мере того как голод делал свое страшное дело, накал ненависти слабел вместе с нами. И вот такие «доходяги», мы ездили на Неву за водой с саночками, ведрами и кастрюлями.
Сейчас я не могу себе представить, как мы все-таки доставали эту воду, – берега, по которым мы спускались, были покрыты льдом от пролитой до нас и нами воды. В нормальной жизни такое доставание воды могло бы быть одним из самых сложных аттракционов с соответствующей наградой. Нашей наградой была вода. Мы очень хорошо знали, что вернуться без воды нельзя, – и доставали ее, встав цепочкой на ледяном крутом берегу, и везли ее домой – на Стремянную, 6, через весь Литейный, через Владимирский. Даже первые дома Стремянной не позволяли обрадоваться (ну, теперь-то дома!). Пролить драгоценную воду можно было и на последнем метре – улицы нигде не убирались, заледенели, каждый шаг был преодолением. И все-таки преодолевали, изредка хватало воды помыться, хотя как-то раз нас даже в баню сводили. В не очень горячем густом паре раздетые люди смотрелись действительно как привидения. Мы тогда еще не знали о лагерях смерти, но выглядели, наверное, похожими на заключенных из концлагеря.