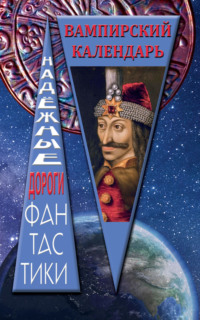Полная версия
Владимир Шаров: По ту сторону истории
В каком-то смысле «Царство Агамемнона» – magnum opus Шарова. Не оттого, что это лучшая его вещь (все хороши, но по-разному), а оттого, что она, подобно магистралу, пятнадцатому сонету из венка, включает в себя части и смыслы других романов.
Действие там частично происходит в доме призрения, будто в сумасшедшем доме из «До и во время»; философия текста построена на истории России всего прошлого века, как «Репетиции»; в текст включены фрагменты эссе, таких как «Бал у Сатаны». Герой пишет на полях своих записок: «И тут всякий раз мне на память приходят слова ее отца, что „все мы умираем детьми, даже если дожили до старости в твердом уме и здравой памяти; то есть какими пришли в мир, такими и уходим“»10 – и это отсылает к шаровскому же роману «Будьте как дети». Идеи «Возвращения в Египет» становятся центральными. Дочь главного героя говорит:
…В свою очередь, уже из этого рождается отцовское понимание нашего времени как вечного стояния у горы Синай. Сколь бы в «Исходе» и во «Второзаконии» Моисей ни предостерегал, ни убеждал сыновей Иакова, что все, кто вместе с ними вышел из Египта, законная часть народа Божия, – в нас поселяется страшная уверенность, что вокруг одни враги и предатели. Пока не изничтожим последнего, не след даже думать о Земле обетованной. С подобной нечистью в Землю, текущую молоком и медом, Господь нас никогда не пустит. Стояние у горы Синай отец пишет очень подробно, то и дело к нему возвращается. В общем, для него, как и раньше, речь идет о Гражданской войне – и той, классической, которая, по распространенному мнению, завершилась в двадцать втором году, и ее продолжении – оно, как убежден отец, ни разу не прервавшись, длится до сегодняшнего дня (имеется в виду сорок шестой год, когда он стал писать свой роман)11.
Персонажи пытаются объяснить происходящее с помощью библейских толкований (так происходит у Шарова везде), и во всех своих книгах Шаров ставит вопрос о смысле и предназначении человеческого существования. Это, кстати, делает весьма легким ответ на вопрос «О чем эта книга?» – она о смысле жизни. Ответ правдив, хоть и звучит издевательски. Сюжет «Царства Агамемнона» пересказать очень сложно. Все начинается с истории советского разведчика, резидента в Аргентине, который таинственно исчезает, прожив всю жизнь вдали от дома, но тут же выныривает в Москве. Этот зачин долго кажется брошенным, случайно оставшимся в черновике, но потом возвращается, отчего повествование делается понятным. Вообще многие детали там ждут своего часа, как шестеренки громадного часового механизма. Некоторые видятся невнимательному наблюдателю недвижимыми, но потом вдруг их цепляют другие части механизма, и огромные шестерни начинают свое движение под напором малых.
Главная линия повествования – жизнь странствующего философа Николая Жестовского, который полжизни проводит в лагерях и пишет бесконечно меняющийся роман «Царство Агамемнона». Дочь его, что любит зваться Электрой, ведет в доме престарелых бесконечные беседы с героем-рассказчиком. Сам рассказчик потом проводит почти бесконечные дни в архивах угрюмого ведомства, ведавшего жизнью и смертью за переписыванием бесконечных допросов разных героев. На это наслаивается история реальных людей, таких как чекист Мясников или прокурор Вышинский, и их судьбы влияют на жизнь героев, а они сами невидимыми подземными путями меняют жизнь всей страны.
Все это образует огромное полотно, на котором фигурки людей, как на картине Брейгеля, любят друг друга, мучают, убивают, молятся, строят новое и чинят порушенное. Но в отличие от безмолвной живописи все они что-то говорят, бормочут, кричат – и из этого шума рождается совершенно библейский хор. Множество необязательных деталей, которые сначала раздражают, но складываются в странный гул; повторные рассказы о событиях начинают сочетаться, гул нарастает, и случается то, что религиозными людьми называется «симфония». Впрочем, и музыкальными людьми это тоже называется «симфония».
Разговор о книге предполагает отчасти рекомендацию к чтению. И тут мне хочется избежать этой рекомендации, потому что книга о тайнах мироздания предполагает чтение кругом посвященных – примерно так же, как Голубиная книга. Кто из причастившихся будет звать сторонних людей? Кто звал вас сюда, чужих? Но тут же нужно одернуть себя: кого надо, того и звали. И нельзя сказать, что работа с философскими книгами Шарова (а они именно философские) сложна – разве человеку, привыкшему к быстрому чтению. Можно сказать, и что все они – размышления о природе власти, о том, что жители России должны в обязательном порядке попадать в рай, потому что они избыли муки предварительно, до суда, иногда еще называемого Страшным. Но и это толкование узко, потому что роман и об отношениях человека с Божьей волей, и о том, как плывет народ по тяжелой воде истории.
Странный, но соответствующий всем русским представлениям о религиозном философе Жестовский считает своего «Агамемнона» продолжением, пятым томом «Братьев Карамазовых».
Начну, – вела дальше Электра, – со сторонней, в сущности, ремарки. Отец не считал писателей ни пророками, ни провидцами, чем, несомненно, их низводил, но тут же в одной из своих статей признавал, что часто жизнь строится точь-в-точь, как она кем-то прежде была написана. Объяснял, что тут дело не в дальнозоркости, а в бездне соблазнов, которыми буквально сочится хорошая проза. Перед этим искушением, продолжал он, мы сплошь и рядом беззащитны. Случается, что книга написана с такой пронзительной достоверностью, с такой неоспоримой убедительностью, что, не имея сил устоять, целые народы становятся на путь, который им кто-то предначертал. Более того, боятся и на шаг отступить в сторону, а то собьешься с дороги и придешь не туда, куда зовут»12.
Сам герой отвечает на допросе:
В настоящее время, гражданин следователь, литургия для меня не просто ось веры. Не просто то, что крепит, держит мир, каков он есть, вообще делает его возможным. Я убежден: все, что его составляет, что мы видим, слышим, понимаем, есть законные, обязательные части единой литургической службы13.
Здесь нужно сказать о религиозности Шарова. При всем интересе к православию и к авраамическим религиям вообще Шаров не был православным человеком в смысле бытовой субординации. Именно это позволило ему говорить о предметах веры со свободой, которая невозможна в русле точного следования канону.
При этом люди его окружали совершенно разнообразные, самых причудливых конфессий и разнородных умонастроений. Я немного прикоснулся к этому миру, миру, существовавшему как бы параллельно официальной поверхности советской жизни. Мир, похожий на воду, которая течет подо льдом несмотря на любой мороз общественного состояния.
Среди воспоминаний Шарова, изданных посмертно, есть, к примеру, история антиквара Горелика, человека, незаметным образом оказавшего сильное влияние на меня самого. Дом этого человека был наполнен удивительными предметами, будто сказочная лавка: часами и шкатулками, приборами неизвестного назначения, какими-то домиками, в которых жили неизвестные сказочные обитатели, не пожелавшие высунуться к моему приходу; летели ангелы и трубили в свои картонные трубы, циферблаты показывали давление времени, будто давление воды или атмосферного столба, напряжение перемен и температуру мироздания. Шаров писал о Горелике:
Думаю, именно молитвами этих вещей его жилье впрямь делалось безразмерным, и стоило Саше любую из них признать красивой, изящной, редкой, это значило, что прописка под его крышей ей обеспечена. Ярко выраженный технарь по своим детским пристрастиям, он буквально на ощупь чувствовал, как живут и понимают жизнь всякого рода механизмы. Думаю, что в музыкальных шкатулках его не меньше меня поражала возможность, будто осел при колодце, безнадежно, вечно ходить по кругу, в то же время легко, игриво и на разные голоса исполнять весьма затейливые пьески. Сам этот переход движения в звук, причем, по мнению профессиональных музыкантов, лучший, чем дают современные магнитофоны, настоящего концертного исполнения14.
Это поэма не вещей, а людей. В воспоминаниях писателя есть нечто очень важное, как и те разговоры, что шли за большим столом и которым я был свидетелем.
Вспоминал ли Шаров об историках с мировым именем или о художниках, погибших в безвестности, о школе, которую окончил, пересказывал ли байки своего отца или говорил о том, как писал роман «Репетиции», важно было то, что он видит необщие черты в людях, которые ему встречаются. А встречались ему, человеку чрезвычайно витальному, сотни людей, из тех, что в старину мастерами назывались «штучным товаром».
Кажется, что образ Смутного времени не оставлял его, хотя Шаров писал о событиях последних полутора веков:
Жизнь проходит через самое нутро человека, она все в нем меняет, но меняется и сама. Жизнь вне человека мне не очень понятна, она кажется мне стерильной и бесполой, неким конструктором, а не живой плотью. По образованию я историк, много лет занимался русской медиевистикой – опричниной и Смутным временем, то есть второй половиной XVI – началом XVII века, но писать прозу, так или иначе касающуюся того времени, меня в общем и целом не тянет. От тех лет если кто до нас и дошел живым, то лишь сильные мира сего, а так осталась одна «канва»; настоящая же «вышивка» со всеми своими деталями и подробностями, со всеми своими человеческими судьбами канула в небытие. В общем, мое время – это последние полтора века нашей жизни, и о древних русичах я писать не дерзаю15.
Главная составляющая этих полутора веков – непрекращающаяся революция.
Вот в 1917 году люди решили построить всемирное счастье. Кто-то этим воспользовался, натворил всяких чудовищных вещей, но множество людей по-настоящему верили в это всемирное счастье. Так верил Федоров. Как бы кто ни относился к идеям Федорова, с этим спорить не будем. Федоров считал себя пророком Божьим. Это очень серьезно, потому что когда читаю философа, я никогда не выклевываю из него что-то прогрессивное или реакционное, угодное или неугодное. И для меня существует как бы две истории – обычная, в которой торгуют, строят, пашут, но есть и другая, совершенно библейская, в которой те же люди пытаются объяснить, понять, зачем они этим занимались. Россия объясняет себе, что все то, что она завоевывает, – Святая земля, что чем больше она завоевывает, тем больше территория Святой земли, а когда вся земля будет такая, тогда Христос и явится. Она объясняет себе, что она – избранный народ, и как избранный народ имеет право на то и на это. И этот уровень понимания и осмысления текста истории абсолютно реален. Например, считается, что у нас бесконечная борьба западников и славянофилов. Это чушь полная – они совершенно дополняют друг друга. Все, что в истории существует долго, существует неслучайно, это все совершенно необходимо. Это закон. Если какая-нибудь группировка или партия существует больше пяти лет, она неслучайна, хотя масса других вещей может быть случайна. Западники же были необходимы, как и импорт каких-то идей с Запада. Но вот что интересно – осмысляли все это славянофилы.
Это как чудо и ремесло: западники работали, приглашались инженеры, строились заводы, отливались пушки; с помощью этих пушек и иностранных офицеров что-то завоевывалось, но осмысление этого завоевания – дело славянофилов. То есть и те и другие – просто разные станции на одной и той же дороге, и те и другие совершенно необходимы. И отдельно и те и другие неправы.
Что же до литературы, до нашего поколения в литературе, то, как мне кажется, для рефлексии просто время еще не пришло. Люди, которые живут бок о бок с нами, имели десятки миллионов читателей. Хотя они говорили полунамеками, их мгновенно, с полуслова все понимали16.
Шаров все время подчеркивал, что считает себя реалистом, а не постмодернистом. Это был отсыл к известной истории, когда (редкий случай) после публикации его романа «До и во время» в журнале «Новый мир» два сотрудника выступили в рубрике «Отклики и комментарии» с откликом (или комментарием) «Сор из избы»:
Роман Владимира Шарова «До и во время» – это симптом появления новой, еще незнакомой нам разновидности конъюнктурной литературы. Литературы, независимо от авторских намерений обслуживающей достаточно широкий круг так называемого интеллигентного читателя, очень бы желавшего быть «на уровне» современной художественной мысли и при этом не желающего (или неспособного) утруждать себя необходимой умственной и душевной работой. …Можно было бы, конечно, назвать это своеобразным демократизмом писателя: заботясь о читателе, Шаров ищет доступные для него формы толкования сложного. Но я предпочел бы более точное слово – опошление. Перед нами не попытка вместе с читателем подняться до уровня затронутых Идей, а действие в обратном направлении – попытка опустить идею до уровня понимания нового массового потребителя литературы17.
По опамятовании, однако, соображаешь, что сексуальное сотрясение служит здесь допингом для сотрясения историософского и для потрошения богословско-метафизических тем. …Но меня поймут неверно, если решат, что в изнасиловании русской, да и священной, истории я вижу идеологическое злоумышление автора, смачную поживу для прохановското «Дня». Нет, эти и подобные мотивы, равно как и другие б/у философемы («…глубочайший мистический эротизм и сексуальность террора…»), равно как и ежесекундное поминание всуе имени Бога, все уныривает в общий котел с безмятежной «постмодернистской» наклейкой на крышке. Заварив в согласии с модой «новый национальный миф», автор горделиво уверен, что ингредиенты он позаимствовал со стола Гарсиа Маркеса, Томаса Манна, Германа Гессе и Андрея Платонова, между тем как в нос бьет струя из «Тайного советника вождя». Я говорю об эстетике, об этике – молчу. В чем тут отличие от действительно талантливого «провокатора» Галковского? В этом последнем случае с нами играют, в шаровском же нас (да и себя) морочат: разница чувствительная.
Опошление и в особенности осквернение как суррогат непосильного, несостоявшегося творческого акта – это проблема как для психоаналитиков, так и для аналитиков культуры18.
Эти отклики были простой реакцией. Она оправдана многолетним читательским опытом и привычкой. Этот абсолютно естественный ход описан в одном фантастическом романе:
…Теперь представьте, что на каком-то древнем заводе замена механического привода станков на электрический произошла не за годы, а сразу – за одну ночь, – продолжал Кривошеин. – Что подумает хозяин завода, придя утром в цех? Естественно, что кто-то спер паровик, трансмиссионный вал, ремни и шкивы. Чтобы понять, что случилась не кража, а технический переворот, ему надо знать физику, электротехнику, электродинамику…19.
А Шаров действительно работал со временем как с текущим по проводам электричеством, не уставая удивляться его загадкам:
У нас была очень страшная и очень непростая история. Весьма мало похожая на ту, какой она описана в учебниках. Ясность, логичность того, чему нас учили, успокаивала, со многим примиряла, и от этого трагедия как бы лишалась своего безумия, выздоравливала. Но эта логика ей не родная, и правды в ней немного. На свет божий она появилась лишь после жестокой подгонки и правки. Вместе с уничтожением миллионов людей, из книг вымарывали все то, что с этими людьми было связано, и получалось, что погибшие не только не являются законной частью своего народа, а их как бы и вовсе не было. В общем, мне хочется верить, что сложность того, что я пишу, меньше всего связана с красотами стиля или чем-то схожим – она от сложности самой жизни, от ее поразительной подвижности и изменчивости, от множества людей, за каждым из которых стоит своя правда и своя беда, и, главное, от невозможности все это между собой примирить. Конечно, всегда помнить, что рядом живут люди с совсем другим пониманием мира, непросто, но если мы этого не забываем, крови льется куда меньше20.
Однажды Шаров написал чрезвычайно интересный текст о переписке Грозного с Курбским. Это было сделано для сборника «Литературная матрица», и текст стал фактически пособием для внеклассного чтения. Там есть ключи все к той же загадке о природе нашей власти:
Избавленные от большинства проблем обычного человеческого существования, от необходимости искать еду, кров, тепло, одежду и защиту, с кем-то договариваться, от кого-то зависеть – то есть от того, что ты лишь малая частица огромного и очень сложного мира, монархи скоро начинают ощущать себя не просто центром Вселенной, а чуть ли не единственными живыми существами в этом бескрайнем, пустом и холодном пространстве. Жизнь не просто сосредотачивается в тебе и на тебе – вне, без тебя вообще ничего нет и не может быть. Отсюда редкое одиночество и скука жизни. Ты можешь как угодно ее разнообразить: казня и юродствуя, или для соответствующих утех телегами возя за собой девственниц, или устраивая из опричного окружения монастырь, в котором сам же и игумен, но ощущение, что не с кем ни пировать, ни просто поговорить, что вокруг одни холопы, никуда не девается.
Оставаясь детьми на троне, они так же, как ребятня, больше другого любят играть в войну. Такие монархи-дети, что понятно, и самые отчаянные реформаторы. Начавшись, как и все остальное, в их малолетство – эти преобразования очень скоро набирают такой ход, что их ничем и никогда не унять. Будто не замечая, что вокруг уже совсем другая, не детская жизнь, проще говоря, кровь, настоящая кровь, они ломают и строят, снова ломают и снова строят и не могут остановиться21.
В «Царстве Агамемнона» есть особый мотив плетения, будто работа парок с нитями судьбы. В ковриках, которые плетет старуха Электра в доме для престарелых, все нити оказываются на своем месте и все ложится в правильной, но очень сложный узор. Герой вспоминает, как его предупредили,
что старики в домах для престарелых легко, без лишней стеснительности говорят о самых откровенных вещах. Считается, что причина в том, что ослаб, может быть даже разрушен, самоконтроль. Но скорее дело в другом. Думаю, что мы просто пытаемся, пусть не в своей – в чужой памяти сохранить собственную жизнь. Без цензуры и ложной стыдливости оставить ее, как была. Несомненно, здесь есть уважение к жизни, которую ты прожил, – на равных к хорошему и плохому, коли и то и то было ее законной частью. Теперь, когда твой век кончается, ты будто брал напрокат – возвращаешь прожитое обратно. Ведь вряд ли оно стоит того, чтобы хотеть забрать его в могилу, но и если все пропадет, уйдет без остатка и следа, будто тебя и не было на белом свете, тоже неправильно22.
Ему вторит главный герой: «Я знаю наверняка, – продолжает Жестовский, – что в настоящей длинной жизни, той, что началась задолго до твоего рождения и кончится тоже невесть когда, ничего не было и не будет напрасно. Каждое слово, к кому бы оно ни было обращено, дойдет до адресата, будет им услышано. И это, в общем, утешает»23.
В России все медленно. Это старая беда, потому что движение по нашим дорогам затруднено. Но в этом же и есть надежда: если движение это такой силы, что пробивает русское пространство, то, значит, рано или поздно оно вырвется наружу.
Движется ли на Новгород войско Иван Грозного, приближаются ли к Иерусалиму паломники, кочуют ли по бескрайним просторам переселенцы, движутся ли красноармейцы по степи – везде, во всяком перемещении для Шарова есть смысл. И одновременно в каждом движении есть надежда. Идет ли на Новгород армия Ивана Грозного, шагают ли красноармейцы сквозь степь или бредут по проселку пророки и паломники – все причудливо и фантастично.
Где-то среди них идет Шаров, совершая вечный обряд запечатления прошлого.
РЕМОНТ ПРОВАЛОВ
Александр Гаврилов
Исайя Берлин придумал делить всех мыслителей на ежей и лис по древнегреческой басне: лиса знает много разного, а еж знает только одну вещь, но важную. Широчайше образованный, обладатель изумительной по цепкости и точности памяти, блестящий литератор, Шаров был при этом ежом из ежей. Его интересовала, если честно, вообще всего одна вещь, к которой он возвращался снова и снова, которую штурмовал опять и опять. Будучи записана словами в строчку или произнесена, эта одна вещь обычно производит впечатление скорее отпугивающее, я проверял это неоднократно. Люди чувствуют себя неловко – это может проявляться по-разному: кто иронически усмехается, кто вертит пальцем у виска. Когда первый из широко замеченных романов Шарова «До и во время» был опубликован в журнале «Новый мир», несколько членов редколлегии сочли необходимым сопроводить его заявлениями о своем принципиальном несогласии с решением это вообще печатать.
Шаров потому и стал (не мог не стать) великим русским писателем, что его интересовала только одна вещь: русская революция как путь строительства Царства Божия на земле.
Владимир Шаров пришел в литературу в самом начале 1990‐х годов, когда вдруг мерный ход истории взорвался, осыпался осколками гражданам на головы и разом стало непонятно ничего: не только как устроена эта сегодняшняя жизнь, не только что будет завтра, но даже и что было вчера. Потоки правды смывали вчерашних кумиров, обращали героев в чудовищ, а многословно проклинаемых врагов – в мучеников и великанов. Вся русская история до 1917 года, которую еще недавно трактовали исключительно в духе «Интернационала» («Весь мир… разрушим, а затем… новый мир построим…»), внезапно ожила и стала «Россией, которую мы потеряли».
В этот момент Шаров выстреливает двумя мощными романами, которые язык не поворачивается назвать дебютными, настолько крепко они сколочены. «Репетиции» рассказывают о том, как патриарх Никон построил Ново-Иерусалимский монастырь с окрестными селами, чтобы библейская Святая Земля и Святая Русь слились географически (это, кстати, строгая историческая правда), нанял крестьян изображать евреев, христиан и римлян (это не вполне правда), затем их после низложения патриарха сослали в Сибирь, они начали передавать потихоньку знание и умение детям, да так это и дотянулось до Гражданской войны, когда римляне из НКВД и христиане под водительством апостола Петра из автоматов расстреляли практически всех евреев, потому что их оставил Бог.
Второй роман, «До и во время», дает дикую и невероятную картину истории ХX века в России как любви множества мужчин к одной женщине – третьему перерождению французской писательницы Жермены де Сталь под воздействием напитка из корня мандрагоры, и заканчивается уже в 1990‐х годах картиной Второго Всемирного Потопа; она засыпает снегом русский ковчег, на котором остаются только философ Николай Федоров (идеолог русского космизма и воскрешения отцов) и та самая мадам де Сталь в кубе – с тремя сыновьями, как и положено Ною и его жене.
Будучи пересказаны очень кратко, эти романы, полагаю, производят вполне безумное впечатление и в лучшем случае делаются похожи на поздние и наименее ценные сочинения Пелевина. Потому что их не нужно пересказывать. Нужно читать.
Шаров, великий мастер описания бедной на события и обстоятельства повседневности, двигается каждый раз по такой писательской траектории, в которой оклейка стен газетами под обои и размеренный марш больничной трехразовой рутины шаг за шагом заманивают читателя дальше и дальше, пока он не обнаруживает себя в какой-то совершенно немыслимой ментальной ситуации, все так же крепко стоящим на ногах, но словно бы на потолке или на лунном луче из окна.
Помню, как роман «До и во время», привезенный мною в палаточный лагерь на Волге, от вынужденного летнего безделья прочла юная дева тринадцати лет. Ничто не смутило ее: ни рождение героя от уже мертвого отца, ни история о том, как мадам де Сталь демонстративно кокетничала с верхушкой политбюро, чтобы разбудить ревность в своем сыне и любовнике Иосифе Сталине, – и тем прокладывала ему путь к вершине власти. К вечернему костру она вышла со второй дочитанной журнальной тетрадкой, безумными глазами и фразой: «Так вот как оно все было на самом деле!»
Всей понятной и непонятной, всей невыносимо жестокой или вовсе бесчеловечной русской истории Шаров как будто бы придумывал новые смыслы. Сталинские репрессии были придуманы, чтобы спасти души верных через умерщвление плоти. Ленин возглавляет крестовый поход беспризорников на Иерусалим. Главная движущая сила Октябрьской революции – радикальная религиозная секта скопцов. При этом за всеми несусветными фантазиями всегда было очень видно настоящее, подлинное знание и понимание истории. Чудеса были не вместо, а поверх настоящей жизни – в этом чувствовалась сила веры и сила истины. Шаров понял первым, что в тех провалах исторической памяти, которыми страдала (да и продолжает страдать) Россия, будет страшными рубцами нарастать конспирология, и без страха вышел ей навстречу.
Рыжий, с седой бородой, Шаров выглядел старцем – не столько в возрастном, сколько в учительном смысле. Очень улыбчивый и подчеркнуто любезный. В каждый момент от него – очень улыбчивого и подчеркнуто любезного – было очень ясное ощущение неполноты присутствия. Как Пушкин обещал весь не умереть, так Шаров словно бы заранее не весь погружался в момент, был где-то еще.