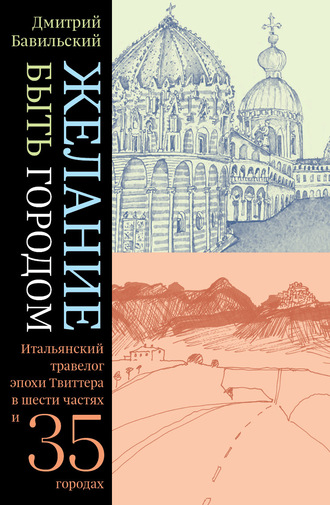
Полная версия
Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и тридцати пяти городах
И здесь я должен сказать кое-что о перуджийцах и о причинах, которые сделали их нашими друзьями. Основная причина – это самое тесное родство между нашей сумасшедшинкой и ихней, если под сумасшедшинкой мы подразумеваем поведение собаки, которая то радуется, то огрызается. Собственно, так ведь ведет себя вообще человек, если это настоящий человек.
Курцио Малапарте. «Проклятые тосканцы». Перевод Валерия Сировского Вторая неделяКаждый итальянский город счастлив по-своему. В романе «Неизбирательное сродство» Игорь Вишневецкий не случайно назначает Равенну «лучшими воротами в Италию», а Ив Бонфуа называет ее «слишком безупречной…».
Первые три точки, сгруппировавшиеся вокруг недели в экс-столице Теодориха, вышли подготовкой ко всему остальному трипу, разминкой восприятия. И если представлять себе нынешнюю поездку как ступенчатую эволюцию, Равенна, Римини и Пезаро, не слишком богатые «музейной программой» (лучшее, конечно, впереди), выступали будто бы на разогреве «основного» маршрута. Вышли чем-то вроде внутриутробной стадии развития, где все пишется начерно – предварительно налаживая общий фасон.
Точно будет и вторая, и третья прикидки, закрывающие тему. Словно все эти города нарочно подобрались таким образом, чтобы из теплого их участия, сублимирующего «свет родного дома», можно было вырваться на бескрайние просторы «большой» и «взрослой» жизни, начавшейся именно в Перудже, которую заранее я вообще себе никак не представлял.
Выйти из черновикаС этим ощущением предварительности впечатлений приходится бороться, так как оно – проявление «советского мыла», когда на ограниченном промежутке возможностей бегаешь в угаре, «теряя человеческий облик», в стремлении пообкусать как можно больше яблок.
С другой стороны, черновиковость первого раза – знак исторического оптимизма, теснящего слабую грудь. Несмотря на логику текущей жизни (и тем более будущей, в которой не светит ничего хорошего), внутренний голос постоянно нашептывает, что «ты сюда еще вернешься, дружок…» Из-за чего вроде как посещаемые церкви и музеи можно проглатывать, не разжевывая. «Потом разберем».
Но ведь в Сансеполькро и тем более в Монтерки, по местам Пьеро делла Франческа, я точно никогда уже не окажусь (лови момент!), поэтому перенастраиваться, конечно же, следует всерьез.
Вот и стопорюсь как могу. Наступаю сенситивной (?) истерике на пятки. Постоянно замедляюсь, чему дополнительно способствует (должна способствовать) неторопливая неделя в медленной Перудже, предъявляющей себя крайне задумчиво.
Первые твиты из Перуджи
Вс, 21:20: Мой путеводитель толще Библии, такой же солидный и противоречивый; а айфон ожил, да. Стефания, моя домохозяйка в Перудже, дала свой шнур, и все зашуршало, замигало, заработало и поехало.
Пн, 11:17: Утро в Перудже, подобно лампе дневного накаливания, расширяется медленно и постепенно: еще пару минут назад было пасмурно, ждали дождь, а теперь – солнце-солнце, и его все больше и больше. Днем обещают +22.
Пн, 11:20: В Перудже живу на седьмом [последнем] этаже современного кондоминиума в нижнем городе – в комнате девочки, дочки Стефании, уехавшей в Кембридж. С плакатами группы Muse на стенах и фотоколлажами, которыми так любили украшать свои «детские» подростки в Советском Союзе. Новый кирпичный дом, артистически продуманная квартира, распахнутая во все стороны.
Пн, 11:23: Сегодня понедельник, день закрытых дверей, поэтому выбирать следует то, что открыто в начале недели. Правильно-правильно, совершу-ка я маленький хадж к святыням в Ассизи, где к тому же нельзя фотографировать (Стефания принесет новый шнур только вечером).
Пн, 11:46: Нравы итальянских городов, даже тесно соседских, столь разные, что, не опасаясь высокопарности, следовало бы говорить об отдельных странах и даже планетах, составляющих единую систему, но предлагающих разную физику времени и пространства.
Пн: 12:04: И, если на новенького, то никогда не знаешь, куда угодишь, несмотря на тонны фотографий и недели подготовки, что обретешь. Учитывая происхождение моей фамилии, видимо, это и есть «Вавилонская лотерея» per se.
Апология борги
Въезд в Перуджу был долгим, так как ландшафт здесь почти как в Урбино – горный, крутой, с постоянными перепадами, вклинивающимися прямо в жилые улицы северной части, из-за чего я долго не мог отыскать место встречи со Стефанией. Ее квартира (да-да, мне теперь придется жить с хозяйкой под одной крышей, и почему-то волнует это мало – я ж исчезаю «в расход» на весь день, до вечера) находится в многоэтажном кондоминиуме одного из «заворотных» холмов «нижнего города», где пронумерованы не отдельные дома, но подъезды.
Стефания (сухопарая блондинка средних лет, à la галеристка или же культурный инстаграммер – очень уж артистична ее квартира, ненавязчиво оформленная антиквариатом, словно бы специально предназначенная для селфи) не удержалась, выскочила на улицу в шлепках, пошла навстречу, чтобы помочь отыскаться.
На самом деле она веган, работает в гуманитарной организации, помогающей париям из третьего мира (да-да, мы здесь очень кстати, очень кстати!), недавно развелась, дочь ее вышла замуж за химика в Кембридже, так что мне досталась классическая детская комната, обклеенная фоточками и рок-н-ролльными постерами.
С балкона седьмого этажа – панорамный вид на «главный» холм верхнего города, открывающегося с пологой стороны: дорога в «зону ЮНЕСКО» плавная и, хотя все время идет вверх (периметр средневековой стены обращен в сонный парк с выдающимися деревьями), позволяет сохранить силы почти целиком. Ну или просто верхушка Перуджи не так крута, как было в Урбино и будет в Сиене.
На крыше мира
Перуджа, она же почти вся вот такая – нетенденциозная, с двумя кольцами крепостных стен; со множеством промежутков и архитектурных лиц, без четких символов и эмблематической чайки на занавесе главной сцены, без акцентов и нажима.
Средневековье почти проиграло в ней битву с поздними наслоениями, спутавшись с доходными домами иных эпох до полного нерасчленения, словно бы взяв на вооружение технологию «взбалтывать, да не смешивать».
Чем дальше от пика и смыслового пупа верхнего города – готической площади 4 Ноября (с фонтаном, Дуомо без баптистерия и картинной галереей дворца приоров, фасад которой, правда, своими глубоко посаженными, подслеповатыми глазами выходит уже на центральную корсо Ваннуччи47), тем сильнее погружаешься в современность – в условный XIX век. В сонливую, одышливую буржуазность с кафе под зонтиками и магазинами, внезапно обрывающуюся на смотровой площадке противоположного края городского холма. К нему главная площадь стекает мятой рекой центрального променада, чтобы создавалось ощущение острова – ограниченного пространства, где каждая из улиц упирается в простор.
Здесь, на краю южного края, огорожен резкий обрыв и за ним открывается одна из величественных умбрийских панорам с дорогами, сквозь поля уходящими в бесконечность, и горами, у горизонта подернутыми сфумато, ассоциирующимся у нас со спиритуальностью живописи Возрождения, одним из важнейших ее воплощений.
И если в бескрайних умбрийских долинах все меланхолически правильно и плавно, то за спиной у меня остается, пожалуй, самая неровная и скомканная площадь из виденных – с массой слепых окон и закоулков, замурованных стрельчатых арок и прочих нелепиц, пробитых в неподобающих местах, складывающихся не то из медленного нарастания готических костей, невысоких и белесых, обглоданных до самого остова, не то из многочисленных перестроек и реконструкций, накладывающихся друг на друга.
Если верить Випперу (а лишь его претензии на объективность, кажется, и можно верить), асимметрия и стихийность, с какой срастаются суставы и неправильные переломы фасадов, выходящих на нервно-неровный майдан, и есть первые признаки устройства готической площади, нарастающей на городском стебле без особого плана.
Именно здесь слова Муратова о перуджийских нобилях, слишком поглощенных «войной и междоусобицей, чтобы успеть подумать об украшении улиц дворцами, которыми так богаты Тоскана и Лациум и так бедна Умбрия», становятся особенно очевидны: многоугольность и многоукладность Площади 4 Ноября, ее неравенство и своенравный правый уклон, похожий на высунутый язык, – главное событие и переживание здешнего центра, примерно такого же стремительно текущего вбок, как в более покатом Римини, ну или же в менее уравновешенном Урбино.
В оба конца
Но можно же развернуться лицом к 4 Ноября и пойти вспять, перестав подпирать подставку для подзорной трубы, – углубиться в горбоносый изгиб главного перуджийского променада от обтекаемой буржуазности правительственных кварталов, вновь подняться к Палаццо Приори и фонтану, выполняющему роль точки отсчета и вошедшему в учебники по раннему Ренессансу48.
Этот подъем наглядно демонстрирует еще и медленное окаменение «культурного слоя», начинающееся где-то внутри. Так орех созревает центростремительным одеревенением от скорлупы к ядру; так мякоть дерева, некогда гибкая и сочная, покрывается корой.
С течением времени архитектура и рукодельные ландшафты забывают о собственном предназначении, перерождаясь в родственные друг другу объекты. Особенно там, где Средневековье еще не побеждено окончательно, но высовывается наружу, выставляет вовне каменистые прелести и щерится непробиваемой кирпичной кладкой, например, крепостных стен.
Ловишь себя на том, что смотришь на город будто бы сверху вниз – точно постоянно находишься на самой высокой его точке, откуда особенно удобно видеть сетку улиц, карту Перуджи, ставшую трехмерной, и эта точка обзора совпадает с путеводителем, из-за чего становится особенно спокойно.
Мы часто повторяем, что время в культуре движется в обоих направлениях, но слишком уж редко выпадает нам наглядность этого правила. Главная площадь собирает Перуджу в навсегда окаменевший бутон, цветоложем которого и будет негатив баптистерия – многогранник фонтана с десятками рельефных изображений.
Но в этот раз хотелось бы не доходить до него, попавшего под самое солнце, а свернуть налево – во внутренний дворик Национальной галереи, занявшей второй и третий этажи Палаццо Приори, чтобы именно там, в парадных и представительских покоях, вновь почувствовать прелесть аутентичной пустоты некогда заполненных жизнью залов. Подобно залам замка в Урбино, нынешний век и здесь использует их не по прямому назначению.
Что ж поделать, если нам не внятно ничего, кроме тотальной музеефикации?! С ней ведь тоже интересно посчитаться: свои первые картины Академия рисунка Перуджи заполучила в 1573 году, хотя большая часть экспонатов в Городскую пинакотеку попала в 1878-м.
Официально открылась она в 1907-м, став Национальной галереей Умбрии в 1918-м. И все это логично звучит и еще логичнее выглядит, с учетом того, что Galleria nazionale dell’Umbria – главное хранилище явления, известного нам как умбрийская школа.
Вход в историю
Пиком умбрийской школы оказывается творчество Перуджино и его учеников, самым известным из которых стал Рафаэль (хотя Пинтуриккьо мне гораздо милей), но для того, чтобы добраться до залов с Перуджино, нужно пройти лабиринты третьего уровня с иконами на золотом фоне и спуститься на второй, плавно переходящий из художественной галереи в совсем уже этнографическое учреждение.
То есть к вершинному явлению местного искусства следует не подниматься, но, напротив, спускаться, что может показаться странным в каком-то другом городе, но только не здесь – Перуджа и сама по себе путана-перепутана, разбросана по холмам и урочищам, обжитым и заново застроенным.
Тем более что за анфиладой с загибом в шесть комнат, где висят работы Перуджино и Пинтуриккьо, наступает почти мгновенный упадок, если не сказать определеннее, обрыв «живописной культуры», точно Перуджино пожрал в Перудже все. Ну или она, выдав наконец протуберанец главных своих гениев, выдохлась и уснула. Духовно навеки почив.
Впрочем, начинается пинакотека крайне эффектно, «с заступом»: чредой громадных залов, явно парадно-официального назначения.
Возле входа в первый из них, где помимо островерхих полиптихов, залитых драгоценным желтком, эффектно экспонируются деревянные распятия, скульптурные группы и витражи, стоит громадная декоративная рама, точно от громадной, никогда не существовавшей картины – билеты проверяют как раз возле нее.
…входишь во внутренний двор палаццо с низкими сводами и скульптурами, снятыми с обветренных фасадов Дворца приоров, поднимаешься по широкой лестнице (захватанные стены, вытертые ступени, угловатые металлические перила) и попадаешь в тусклый из-за обилия солнца коридор, точно в замке. Впрочем, Палаццо Приори такой замок и есть. Вступая в музейный лабиринт, посетитель как бы входит во внутреннее пространство картины, скорее всего написанной темперой по дереву, так как масло и холст появятся в Умбрии значительно позже.
Внутри картины
Из официальных покоев во всю длину дворца вытекают две выставочные галереи, где «Византия» сплетается с готикой сначала до полного единения, затем окончательно расплетаясь в конце Кватроченто, раздваиваясь, вместе с логикой экспозиции, на разные, но тем не менее параллельные процессы.
Известно же, что Сиена сильно отставала от Флоренции, самостийно вырабатывавшей ветры новейших течений, века за веками оставаясь центром итальянской готики. Что ж тогда ждать от Перуджи, ощутимо чувствовавшей провинциальность даже по отношению к Сиене и до сих пор так до конца и не преодолевшей комплекса умбрийской неполноценности?
Когда Флоренция переживала внутри Возрождения «вторую готику», Перуджа еще только-только справлялась с «первой». Именно этой динамике внутри обездвиженности и посвящен десяток начальных залов, сходящихся в комнате с большим полиптихом Пьеро делла Франческа (видимо, чтобы рифма с Урбино выходила еще более точной).
Умбрийская школа как раз и интересна компромиссом между готическим мейнстримом Сиены и продвинутыми исканиями Флоренции, идеально выраженными меланхолическим свечением Перуджино (явно подхваченным им у Пьеро делла Франческа).
Сиена до последнего упорствовала в олдскульности, Флоренция забегала далеко вперед, а Перуджа пролегала как раз между ними.
Внутри канона
Кажется, ничто так не изощряет зрение, как византийские и проторенессансные примитивы: сладко замечать в каждой из узких, островерхих досок точки оттаивания и отступления от канона, расколдованного тем или иным художником в едва заметном очеловечивании лиц, развоплощении фигур, усложнении складок и поз, истончении сукцессии, нарастающем реализме архитектурных кулис, между которыми порой возникает подобие узнаваемого теперь пейзажа.
Есть какая-то непонятная закономерность в том, как нащупывание и проявление перспективы, особенно после Учелло и Пьеро делла Франческа, начинают влиять на индивидуальность лиц и движений, становящихся не просто осмысленными, но по-человечески одухотворенными.
В этих залах («Полиптих из Сант-Антонио» Пьеро делла Франческа находится в 11-м) разные авторитеты предлагают зафиксироваться на разных узловых для Перуджи живописцах.
Прежде чем перейти к Перуджино и к Пинтуриккьо, Виппер обращает внимание на подслеповатую «Мадонну с младенцем и музицирующими ангелами» Джентиле да Фабриано (6-й зал), «искусство [которого] не столько послужило к образованию местной живописной школы, сколько выполняло роль посредника между различными направлениями эпохи», и «Благовещение» Бенедетто Бонфильи, миниатюры которого, заполненные подробной архитектурой (21-й зал)49, предшествуют мощному наступлению времен его лучшего ученика – Перуджино.
Возле идеала
Размышляя о влиянии Пьеро делла Франческа на местных мастеров50, Муратов тоже ведь вспоминает Бонфильи (больше «Благовещения» мне понравилась его «Мадонна с младенцем и музицирующими ангелами» из 14-го зала), а также «самым привлекательным» называет Джованни Бокатти, чьи «две капитальные» картины, «Мадонна беседок» и «Мадонна оркестра», висят в 9-м зале.
Понятно, почему Виппер прошел мимо них: обе мадонны Бокатти, окруженные богатым архитектурным декором и многофигурным обрамлением, выдают в нем одного из тех живописцев, которых за избыточные подробности, повышенную красочность и декоративность он называет «рассказчиками».
К этому типу Виппер относит моих любимцев Гоццоли, Гирландайо (им он отказывает в какой бы то ни было глубине), Пезеллино, обоих Липпи, ну и раннего Боттичелли, который из Липпи так логически вытекает. Вот и Бокатти, кажется, идеально вписывается в эту интуитивно понятную тенденцию, обычно разворачивающуюся в широкоформатных фресковых циклах. Мадонны его едва ли не затерялись среди золотистых, будто бы слегка подрумяненных на оливковом масле ангелов-хористов и ангелов-музыкантов, даром что все эти «картины в рамах» по сути своей – проторенессансные фрески, многочисленными живописными складками пытающиеся выпутаться из запоздалой готики.
Из других заметных перуджийцев, перечисляемых эстетами через запятую («…Бартоломео Капорали, Пьеро Антонио Мезастрис и Маттео да Гуальдо…»), я обратил внимание на лощеного Капорали в сдвоенном зале 15-16, окружающем лестничную клетку. Его несколько кокетливой Мадонне преподносят букеты в узких стеклянных вазах два худосочных ангела. Главное – не запутаться, так как в 27-м зале висит другой Капорали – Джованни Батиста, художник явно менее существенный.
Река входит в русло
Как пройти мимо композиций Фиоренцо ди Лоренцо, которого Муратов преподносит самым важным, но так до конца и не распутанным, а то и вовсе путаным атрибуционным открытием искусствоведа Лионелло Вентури. Современные искусствоведы приписывают Фиоренцо ди Лоренцо около пяти десятков работ (большинство из них показывают в этой пинакотеке) самых разных стилей. Из-за чего его можно назначить и последним выплеском перуджийской готики, и причислить к многочисленным учителям Перуджино – Лоренцо оказывается важным звеном развития местной школы, выдающим плавную эволюцию очеловечивания стилевых поисков.
В 10-м зале можно увидеть «Святое собеседование» Беноццо Гоццоли с нехарактерными для него отдельно стоящими фигурами (особенно это заметно на узкой пределле, состоящей из одной-единственной золотоносной директории, растянутой на весь нижний край иконы) – точно здесь главный декоратор-рассказчик Флоренции и ее окрестностей предчувствует один из основных приемов Перуджино, персонажи которого обычно зависают в светоносном бальзаме умбрийского ландшафта строго поодиночке.
Из других великих имен хочется отметить роскошно готический полиптих Фра Беато Анджелико из 8-го зала.
Для того чтобы перейти в другую эпоху, нужно спуститься по лестнице из парадных и просторных залов, оформленных как замковые покои (остатки росписей и лепного декора, аутентичные двери и окна) в сугубо музейное хранилище с натяжными потолками, фальшстенами, особым температурным и, главное, световым режимом, погружающим органы чувств в негу.
Пик. Перуджино
Если самым флорентийским умбрийцем, максимально близким к ренессансной проблемности, считать, как предлагает Виппер, энергичного и волевого Луку Синьорелли, то дальше всех, если идти по этой шкале, оказывается Перуджино, искавший не «правду», но «красоту», не «размышление», но «любование» – с помощью «чувства» и «воображения», а не «рациональных начал».
Перуджино первым приходит в голову, когда мечтаешь о чистой спиритуальности итальянского искусства. Все обязательные его элементы, соединяясь в медоточивую схему, становятся эмблематичными: отдельно стоящие тела, выписанные с особенным тщанием, но и с обязательным сфумато, подхваченным им, видимо, в мастерской Верроккьо, где он учился вместе с Леонардо; «голубиный взгляд» запрокинутых голов, порхающие ангельские лица, окруженные крылышками, точно цветы лепестками; чистые цвета одеяний, свободно скользящих по фигуре; гладкие поверхности и прозрачные колеры, а также, разумеется, рассеянные умбрийские пейзажи. Дымчатые ландшафты, растворяющиеся в бесконечности и растворяющие в себе человека, как сахар, чтобы стать еще чуточку невесомее…
В хрустальном омуте какая крутизна!За нас сиенские предстательствуют горы,И сумасшедших скал колючие соборыПовисли в воздухе, где шерсть и тишина.51У Перуджино, как и у Пьеро делла Франческа, главным героем оказывается загустение светоносной кубатуры, насыщенной взвесью той самой духовности, о которой так сильно скучают (и ищут повсюду) и которая есть в избытке разве что у Перуджино да еще, быть может, у самого младшего из Беллини. И даже если персонажи его образуют замкнутые группы, каждая из фигур стоит отдельно от других, словно бы завернутая в собственный воздух.
Вот неподвижная земля, и вместе с нейЯ христианства пью холодный горный воздух,Крутое Верую и псалмопевца роздых,Ключи и рубища апостольских церквей.То, что искусствоведение ставит Перуджино в минус (ритмическое однообразие, пассивность, декоративное истончение), кажется мне проявлением внутреннего духа, плазмой позднего лета, окружающей людей, – именно в ней человек окончательно сливается с пейзажем, становится частью бескрайней вселенной.
Какая линия могла бы передатьХрусталь высоких нот в эфире укрепленном…Фаворский свет
Пять залов Перуджино обладают картинами разных жанров и форматов, но разделить их можно на два подвида: в первом из них главные композиционные сгущения случаются на небесах, и тогда центр изображения заполнен пейзажами со всем набором привычных умбрийских черт, во втором богочеловеки, святые и люди занимают передний, земной план, чтобы заслонить собой родные места, встать на авансцене, опередить все остальное.
Фрески с широкоформатными, геометрически правильными ренессансными площадями, заполненными симметричными толпами и храмом посредине, будут позже. Пока же на большинстве многофигурных полотен Перуджино (хочется назвать их холстами, это ведь уже и есть картины в современном понимании) в этом музее мерцает облачная прослойка, воздушный поребрик, отделяющий верхний, горний мир от нижнего.
Эта застывшая облачность, если смотреть на нее издали или на репродукциях, кажется жировой прожилкой, живописной помехой, повреждением единства. Конечно же, в Национальной пинакотеке Умбрии есть собственное «Преображение», выглядящее апофеозом двоемирия, где мизансцена, произошедшая на горе Фавор, выглядит так, точно Спаситель вместе с Илией и Моисеем стоят на облаке, как на пустынном берегу, тогда как Петр и братья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, вместе с холмистым пейзажем находятся под толщей прозрачной воды. Ощущение глубины, причем во всех ее смыслах (пространственной, водной), присуще почти всем работам Перуджино, то ли промытым как стекло, то ли под промытое стекло помещенным.
Капелла Сан-Севере
Примерно такая же двухчастная структура с горизонтальным облаком, делящим земную и небесную сферы, – у фрески, находящейся на другом конце города, в самой высокой точке Перуджи. В некогда камальдульском монастыре, куда можно попасть лишь сбоку, так как капелла Сан-Севере – все, что осталось от левого нефа не существующей ныне церкви.
Здесь, сразу у входа, проломленного вопреки логике геометрии, продадут билет и позволят пройти в небольшую комнатушку за шторкой, где расписана только одна стена, образующая что-то вроде алтаря. Верхнюю часть ее в 1505 году расписал 22-летний Рафаэль, перед тем как покинуть Перуджу навсегда, нижнюю же в 1522-м закончил его учитель Перуджино, причем, если верить Вазари, уже после смерти ученика. Ибо пока Рафаэль оставался жив, сохранялась договоренность о возвращении его в провинциальный город – вот монахи и ждали до последнего, ведь всякому понятно, что иметь капеллу, целиком расписанную Рафаэлем (ну или хотя бы его подмастерьями по рисункам мастера), круче, чем еще одну фреску Перуджино – их же здесь как грязи, тогда как других работ Рафаэля в Перудже больше нет.
В той шкале, по которой экспрессия Луки Синьорелли максимально близка живописцам флорентийского Возрождения, а Перуджино, соответственно, располагается на прямо противоположном полюсе урбинской школы, за точку отсчета берется именно Рафаэль – настолько уравновешенный и гармоничный, что порой хочется назвать его «пустым местом»: так сильно он осел и закрепился в этих своих бестенденциозных пазах.



