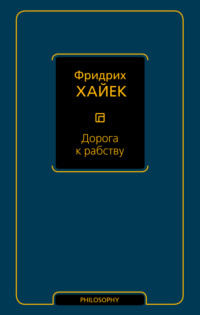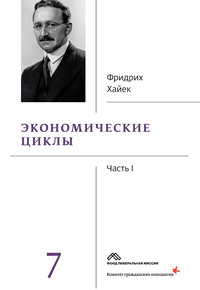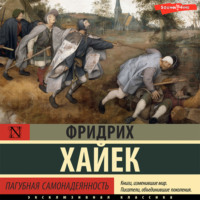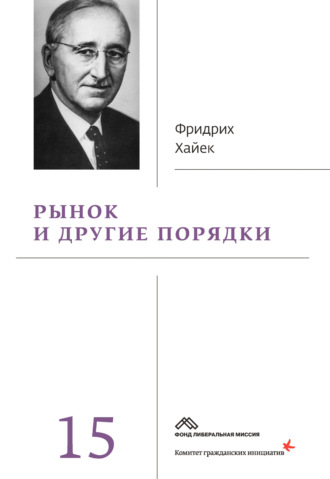
Полная версия
Рынок и другие порядки
Стоит отметить, что в приведенной цитате содержится отрицание не только традиционных моральных норм, но и всякой подчиненности любым абстрактным правилам поведения, моральным или иным. Здесь предполагается, что проницательность человека достаточна для успешного упорядочивания собственной жизни, не опираясь на помощь общих правил или принципов; иными словами, предполагается, что человек способен успешно координировать свою деятельность благодаря совершенному знанию всех обстоятельств и сознательной оценке последствий всех возможных альтернатив. При этом проявляется не только грандиозное преувеличение наших интеллектуальных способностей, но и полное непонимание того мира, в котором мы живем. При таком подходе практические проблемы трактуются так, как если бы мы знали все факты и все задачи носили бы чисто интеллектуальный характер. Боюсь, что при этом предположении большая часть современной социальной теории оказалась бы обесцененной. Важнейшим фактом является то, что мы не всеведущи, что время от времени нам приходится приноравливаться к новым фактам, которых мы прежде не знали, а поэтому мы не способны упорядочивать нашу жизнь в соответствии с детализированным планом, в котором каждое отдельное действие заранее рационально пригнано ко всем остальным.
Поскольку вся наша жизнь состоит в столкновении с новыми и непредвиденными обстоятельствами, мы не сможем ее упорядочить, если заранее распишем все наши конкретные действия. Единственный способ несколько упорядочить собственную жизнь – это принять определенные абстрактные правила или принципы поведения и затем строго подчиняться им во всех возможных новых ситуациях. Наши действия образуют согласованный и рациональный паттерн не потому, что они представляют собой развертывание предварительно принятого единого плана, а потому, что в каждом последовательном решении мы ограничиваем спектр выбора одними и теми же абстрактными правилами.
Размышляя о том, сколь важна приверженность правилам для упорядочивания нашей жизни, поражаешься тому, как мало внимания уделялось связи между этими абстрактными правилами и обеспечением общего порядка <в обществе>. Каждый, конечно, знает, что мы соблюдаем правила, чтобы придать нашей жизни какую-нибудь связность, что дело не только в стремлении упростить жизнь и избежать раздумий при всяком решении, но и в том, что это единственный способ сделать жизнь разумной. У меня нет возможности более систематически рассмотреть соотношение между подчинением абстрактным правилам поведения и достижением абстрактного всеохватывающего паттерна. Но я должен отметить один существенный момент. Чтобы таким способом достичь полного упорядочивания наших дел, нужно соблюдать общие правила во всех случаях, а не только в тех, когда нет особых причин от них отклоняться. Отсюда следует, что мы должны в отдельных случаях игнорировать знание определенных последствий, порождаемых соблюдением правил. Глубокое понимание роли соблюдения правил требует гораздо более жесткого подчинения им, чем склонны допускать конструктивистские рационалисты, которые принимают абстрактные правила в лучшем случае как подмену выбора решения на основании полного учета всех конкретных обстоятельств и полагают желательным несоблюдение правил, когда для этого есть достаточные основания.
Чтобы избежать непонимания, отмечу, что, говоря о жестком соблюдении правил, я, конечно, имею в виду не какую-либо отдельную норму, а всю систему норм, для которой не редкость, что изменение одного лишь правила может изменить все результаты работы системы. Следовало бы, конечно, говорить об иерархии правил, различающихся своей значимостью. Но здесь нет возможности углубляться в этот важный вопрос, и ограничусь повторением – подчинение какому-либо одному правилу не способно разрешить все наши проблемы.
VIСказанное выше о необходимости абстрактных правил для координации последовательных поступков отдельного человека во всех новых и непредвидимых ситуациях еще важнее для координации действий множества людей в конкретных ситуациях, которые только частично известны каждому, да и делаются понятными только по мере их возникновения. Это подводит меня к тому моменту моего личного развития, когда я начал размышлять о всякого рода вопросах, обычно считающихся философскими, хотя прежде был чистым и узконаправленным экономистом-теоретиком, который занимался только техническими аспектами теории. Похоже, что все началось лет тридцать тому назад, когда я написал эссе «Экономическая теория и знание» («Economics and Knowledge»)[130], в котором я анализировал то, что мне представлялось центральной трудностью чистой экономической теории. Главный вывод заключался в том, что экономическая теория должна объяснить, как возникает общая упорядоченность экономической деятельности, при которой используются обширные знания, существующие только как ограниченные знания тысяч или миллионов индивидов и не объединяемые каким-либо индивидуальным разумом. Но оттуда был еще немалый путь до адекватного понимания соотношения между абстрактными правилами, которым индивид подчиняет свои действия, и всеохватывающим абстрактным порядком, который возникает в результате того, что в частных ситуациях он подчиняется этим абстрактным правилам. Только в результате тщательного пересмотра древней концепции свободы в рамках закона, основной концепции традиционного либерализма, и возникающих при этом проблем философии права я пришел к приемлемо ясному представлению о природе спонтанного порядка, о котором так давно уже говорят либеральные экономисты.
Это оказывается одним из примеров общего метода косвенного создания порядка в ситуациях, когда явления слишком сложны, не позволяя нам создавать порядок, просто поставив каждый элемент на соответствующее место. Это порядок того рода, когда мы почти не имеем контроля над конкретными его проявлениями, потому что определяющие его правила определяют только его абстрактные характеристики, а детали формируются в частных обстоятельствах, известных только конкретным участникам. А значит, это порядок, который мы не можем усовершенствовать, но способны только расстроить попытками сознательного переустройства. Единственный путь к совершенствованию заключается в совершенствовании абстрактных правил, которым подчиняются индивиды. Но это, по необходимости, медленная и трудная задача, потому что большая часть правил, направляющих наше общество, не были сознательно выбраны и, соответственно, мы очень слабо понимаем, что же именно от них зависит. Как я уже отметил, они представляют собой продукт медленной эволюции, в ходе которой в них воплотилось много больше опыта и знаний, чем способен охватить любой отдельный человек. Это означает, что, прежде чем надеяться успешно их усовершенствовать, нужно понять, как взаимодействуют между собой стихийные силы общества и сознательно вводимые правила. Для этого будет нужно гораздо более тесное сотрудничество специалистов по экономической теории, праву и социальной философии, но и после этого можно надеяться только на медленный, экспериментальный процесс постепенного совершенствования, а не на возможность резкого изменения.
По-видимому, вполне ожидаемо, что конструктивистские рационалисты, столь гордящиеся мощью человеческого разума, должны были восстать против необходимости подчиняться правилам, значимости которых они не понимали, правилам, результатом функционирования которых был порядок, детали которого мы не в силах предсказать. Неспособность произвольно формировать ход человеческих дел противоречит стремлению поколений, веривших, что, используя все силы разума, человек может стать хозяином своей судьбы. Но похоже, что именно желание поставить все под рациональный контроль, основанное на неверном представлении о границах разума, не только не способствует полному раскрытию всех сил разума, но есть просто поругание его и ведет в итоге к разрушению свободного взаимодействия индивидуальных умов, которое и питает возрастание самого разума. Истинно рациональное понимание роли сознательного разума указывает на то, что одной из важнейших его задач является установление надлежащих границ рациональному контролю. Как отметил великий Монтескье в зените «эпохи разума»: la raison meme a besoin de limites <сам разум нуждается в границах>[131].
VIIВ заключение хочу сказать несколько слов, чтобы объяснить, почему для моего основного выступления в Японии – в университете, который так любезно принимает меня в качестве одного из своих членов, – я выбрал именно эту тему. Не думаю, что ошибаюсь, полагая, что культ сознательного использования разума, бывший в последние триста лет таким важным элементом развития европейской цивилизации, не играл той же роли в развитии Японии. Видимо, нельзя отрицать и того, что целенаправленное, инструментальное использование разума в XVII, XVIII и XIX вв. стало главной, может быть, причиной ускоренного развития европейской цивилизации. И совершенно естественно, что, когда японские мыслители начали изучать различные течения в развитии европейского мышления, их прежде всего привлекли школы, представляющие самые крайние и явные формы рационалистической традиции. Людям, ищущим секрет западного рационализма, изучение его крайних форм, которые я называю конструктивистским рационализмом и в которых вижу незаконное и ошибочное преувеличение характерного элемента европейской традиции, могло показаться самым многообещающим путем к открытию этого секрета.
Так и получилось, что в Японии особенно широко изучались те ветви европейской традиции, которые восходят к Платону в Древней Греции, были возрождены в XVII в. Декартом и Гоббсом и раздували этот культ разума через работы Руссо, Гегеля и Маркса[132]. Моей главной целью было предупредить, что именно школы, которые дальше всего зашли в развитии того, что может показаться самым характерным элементом европейской традиции, зашли столь же далеко в своем заблуждении, как и те, кто склонен недооценивать ценность сознательного разума. Ведь разум подобен опасной взрывчатке, которая может быть очень полезна при осторожном обращении с нею, а может, при неосторожности, взорвать цивилизацию.
К счастью, этот конструктивистский рационализм является не единственным элементом европейской философской традиции, хотя нужно признать, что им окрашены взгляды величайших наших философов, в том числе даже Иммануила Канта. Но по крайней мере за пределами коммунистического мира (где конструктивистский рационализм взорвал-таки цивилизацию) мы находим иную традицию, более скромную и менее амбициозную, которая меньше ориентирована на строительство грандиозных философских систем, но внесла куда больший вклад в фундамент современной европейской цивилизации, и особенно в политический порядок либерализма (тогда как конструктивистский рационализм был всегда и везде враждебен либерализму). Эта традиция также восходит к классической античности, к Аристотелю и Цицерону, дошла до современности главным образом через труды св. Фомы Аквинского, а в последние столетия развивалась главным образом в работах политических философов. В XVIII в. это были преимущественно оппоненты картезианского рационализма – Монтескье, Давид Юм и шотландские философы его школы, в частности Адам Смит, который создал истинную теорию общества и роли разума в развитии цивилизации. Мы в немалом долгу перед великими либералами Германии Кантом и Гумбольтом, которые, однако, подобно Бентаму и английским утилитаристам, не вполне избежали фатальной привлекательности Руссо и французского рационализма. В своем самом чистом виде эта школа политической философии еще раз проявляется в работах Алексиса де Токвиля и лорда Актона; основы социальной теории впервые после Давида Юма были отчетливо переформулированы в работах основателя австрийской школы экономической теории Карла Менгера. Среди современных философов велика роль профессора Карла Поппера, который дал важные новые основания этому течению мысли. Он назвал это течение «критическим рационализмом», что, по моему мнению, очень удачно выражает отличие от наивного рационализма или конструктивизма. Мне представляется, что это лучшее название для обозначения общей позиции, которую я считаю наиболее разумной.
Моей главной целью было привлечь ваше внимание к этой традиции. Скорее всего, вы найдете в ней меньше нового и сенсационного, чем прежние поколения японцев находили в школе Декарта – Гегеля – Маркса. Сначала она покажется вам менее волнующей и возбуждающей – она не дает того восторга или даже интоксикации, как культ чистого разума. Но я надеюсь, что вы обнаружите в ней духовное родство. Поскольку это не одностороннее преувеличение, имеющее корни в определенной фазе европейского интеллектуального развития, но
истинная теория природы человека, она даст основания для развития, в которое вы сможете внести собственный вклад исходя из собственного опыта. В этом представлении о разуме и обществе находится место для роли традиции и обычая. Она позволяет нам понимать много такого, к чему оказываются слепыми те, кто был воспитан на грубых формах рационализма. Она показывает нам, что порой уже существующие, никем не изобретенные институты и установления могут представлять собой лучшую рамку для роста культуры, чем весьма хитроумные разработки.
Президент Мацусита[133] в иной связи задал мне вопрос, имеющий самое прямое отношение к делу, но на который я тогда не смог ответить. Если я верно понял, он спросил, не могут ли порой люди, полагающиеся на конвенциональные институты, а не на изобретение их, обеспечивать большую свободу индивидам, а значит, и большие возможности развития, чем те, кто пытается сознательно сконструировать все институты или пытается их переустроить в соответствии с принципами разума. Я полагаю, что ответ должен быть «да». Пока мы не научимся опознавать подходящие границы для вмешательства разума в дела общества, будет сохраняться опасность, что, пытаясь навязать людям то, что мы считаем рациональным паттерном, мы просто задушим ту свободу, которая есть главное условие постепенных улучшений.
Часть I
Ранние идеи
Глава 1
Экономическая теория и знание[134]
IДвусмысленность, заключенная в названии настоящей работы, не случайна. Ее главный предмет – это, конечно, та роль, которую в экономическом анализе играют предпосылки и допущения относительно знаний, имеющихся у различных членов общества. Но это никак не отделяется от другого вопроса, который можно рассматривать под тем же заголовком, – в какой мере формальный экономический анализ дает какое-либо знание о происходящем в реальном мире. Действительно, мой главный тезис будет заключаться в том, что тавтологии, из которых состоит формальный равновесный анализ экономической теории, можно превратить в высказывания, которые что-то говорят нам о причинных связях в реальном мире лишь постольку, поскольку мы способны наполнить эти формальные положения содержательными утверждениями о том, как приобретаются и передаются знания. Короче говоря, я намерен показать, что эмпирический элемент в экономической теории – единственная ее часть, имеющая отношение не только к импликациям из заданных предпосылок, но также к причинам и следствиям и ведущая нас таким образом к выводам, поддающимся (во всяком случае в принципе) верификации[135], – состоит из утверждений, касающихся приобретения знаний.
Вероятно, мне следует сначала напомнить вам о том примечательном обстоятельстве, что в разных областях в самое последнее время было предпринято немало попыток продвинуть теоретическое исследование за рамки традиционного равновесного анализа. И очень скоро выяснилось, что их успешность зависит от допущений, которые мы делаем в вопросе если и не идентичном моей теме, то по меньшей мере составляющем ее часть, – а именно в вопросе о предвидении. Мне кажется, что впервые, как и следовало ожидать, широкое внимание к обсуждению предпосылок, касающихся предвидения, привлекла теория риска[136]. И может еще статься, что глубокое стимулирующее воздействие работ Фрэнка Найта выйдет далеко за пределы этой специальной области[137].
Так, почти сразу же обнаружилось, что допущения, которые приходится делать в отношении предвидения, имеют фундаментальное значение для решения головоломок теории несовершенной конкуренции, проблем дуополии и олигополии. С тех пор стало еще более очевидно, что при изучении более «динамических» вопросов денежного обращения и промышленных колебаний предпосылкам относительно предвидения и «ожиданий» также принадлежит центральная роль и что, в частности, понятия, перенесенные в эти сферы из чисто равновесного анализа, как, например, равновесная норма процента, можно строго определить только в терминах допущений, касающихся предвидения. По-видимому, в данном случае дело обстоит так, что, прежде чем мы сможем объяснить, почему люди ошибаются, мы должны сначала объяснить, почему они вообще могут быть правы.
В общем, мы, кажется, подошли к пункту, где все осознали, что само понятие равновесия можно сделать ясным и определенным только в терминах допущений, имеющих отношение к предвидению, хотя мы можем оставаться еще несогласными в том, каковы именно эти важнейшие допущения. Я обращусь к этому вопросу несколько позже. Пока же я только попытаюсь показать, что при нынешнем положении дел, хотим ли мы определить границы экономической статики или выйти за ее пределы, нам не миновать спорной проблемы, какое именно место должны занимать в наших рассуждениях предпосылки, касающиеся предвидения. Может ли это быть простой случайностью?
Как я уже говорил, причина этого, на мой взгляд, кроется в том, что мы имеем здесь дело с частным аспектом гораздо более широкой проблемы, к которой следовало бы обратиться намного раньше. Вопросы, по сути схожие с уже упомянутыми, фактически возникают всякий раз, как только мы пытаемся применить к обществу, состоящему из некоторого числа независимых лиц, систему тавтологий – набор из таких высказываний, которые необходимо истинны, поскольку являются всего лишь преобразованиями наших же начальных допущений, и которые составляют основное содержание равновесного анализа[138]. Мне давно казалось, что само понятие равновесия и методы, используемые нами в чистой теории, имеют ясный смысл только тогда, когда все ограничивается анализом действий отдельного человека и что мы действительно переходим в иную сферу и молча вводим новый элемент совершенно иного свойства при попытках использовать его для объяснения взаимодействия множества различных индивидов.
Я уверен, многие относятся с раздражением и подозрительностью к присущей всему современному равновесному анализу общей тенденции превращать экономическую теорию в раздел чистой логики – в набор самоочевидных утверждений, не подлежащий, подобно математике или геометрии, никакой проверке, кроме проверки на внутреннюю непротиворечивость. Представляется, однако, что, если только продвинуть этот процесс достаточно далеко, он принесет средства для собственного исправления. Выделяя из наших рассуждений о фактах экономической жизни части, верные априорно, мы не только изолируем один элемент в качестве своего рода Чистой Логики Выбора во всей его чистоте, но также вычленяем другой элемент, которым слишком долго пренебрегали, и подчеркиваем его важность. Моя критика нынешних устремлений делать экономическую теорию все более и более формальной состоит не в том, что они зашли слишком далеко, а в том, что они все еще не доведены до окончательного обособления этого раздела логики и возвращения на законное место исследований причинных процессов с использованием формальной экономической теории в качестве такого же инструмента, как мы используем математику.
IIНо прежде чем я смогу доказать свое утверждение, что тавтологические высказывания чистого равновесного анализа как таковые не могут прямо использоваться для объяснения социальных отношений, мне нужно сначала показать, что понятие равновесия имеет ясный смысл применительно к действиям отдельного индивида и в чем этот смысл состоит. На мое утверждение можно возразить, что именно в такой ситуации понятие равновесия лишается смысла, поскольку если бы кто-то захотел применить это понятие к ней, то не смог бы сказать ничего, кроме того, что отдельный человек всегда находится в состоянии равновесия. Однако, хотя это последнее утверждение и представляет собой трюизм, оно показывает только, до какой степени злоупотребляют обычно понятием равновесия. К делу относится не то, пребывает ли человек как таковой в равновесии или нет, а то, какие из его действий пребывают в равновесных отношениях друг с другом. Все положения равновесного анализа, например то, что относительные ценности будут соответствовать относительным издержкам или что человек будет уравнивать предельные доходы от различных вариантов использования любого фактора, касаются отношений между действиями. Можно говорить, что действия человека находятся в равновесии, коль скоро подразумевается, что они составляют часть одного плана. Только в этом случае, то есть только если решение обо всех этих действиях было принято одновременно и с учетом одних и тех же обстоятельств, наши утверждения об их взаимосвязях, высказанные исходя из допущений относительно знаний и предпочтений данного человека, могут иметь какой-то прикладной смысл. Важно помнить, что к так называемым «данным», которые служат нам отправным пунктом в этом виде анализа, относятся (помимо вкусов рассматриваемого человека) все факты, которые ему даны, то есть вещи, как они существуют в его знаниях (или представлениях) о них, а не объективные факты в строгом смысле. Только поэтому дедуцируемые нами выводы необходимо имеют силу априори, и только поэтому наша аргументация остается непротиворечивой[139].
Два главных вывода из этих соображений состоят в следующем. Во-первых, поскольку отношения равновесия существуют между последовательными действиями человека, лишь пока они остаются частями выполнения одного и того же плана, любое изменение в релевантных (relevant) знаниях человека, то есть любая перемена, заставляющая его пересмотреть свой план, подрывает равновесное отношение между действиями, предпринятыми до и после изменений в его знаниях. Иными словами, равновесное отношение охватывает действия этого человека только за тот период, пока его ожидания оказывались верными. Во-вторых, поскольку равновесие – это отношение между действиями и поскольку действия одного человека обязательно должны происходить последовательно во времени, очевидно, что ход времени весьма важен для придания понятию равновесия какого-либо смысла. Об этом стоит упомянуть, поскольку многие экономисты оказались, похоже, не способны найти место для времени в равновесном анализе и потому предположили, что понятие равновесия должно рассматриваться как вневременное. Подобное представление мне кажется лишенным смысла.
IIIНесмотря на то, что я сказал ранее о сомнительной значимости равновесного анализа применительно к условиям конкурентного общества, я не хочу, конечно, отрицать, что первоначально он был введен именно для выражения идеи своего рода сбалансированности между действиями различных индивидов. Все, что я пока доказывал, так это то, что смысл, вкладываемый нами в понятие равновесия при описании взаимозависимости разных действий одного человека, не позволяет непосредственно переносить это понятие на отношения между действиями различных людей. Вопрос, по существу, заключается в том, как мы можем пользоваться им, когда ведем речь о равновесии применительно к конкурентной системе.
Первый вывод, вытекающий, по-видимому, из нашего подхода, состоит в том, что равновесие здесь существует, если действия всех членов общества в течение какого-то периода представляют собой выполнение соответствующих индивидуальных планов, намеченных каждым из них на начало данного периода. Однако, когда мы пытаемся затем выяснить, что же именно это значит, оказывается, что такая формулировка создает трудностей больше, чем решает. С идеей отдельного человека (или группы лиц, управляемой одним из них), действующего в течение какого-то периода по заранее задуманному плану, особых проблем не возникает. В этом случае план не должен отвечать каким-то специфическим критериям, чтобы его выполнение было мыслимым. Он может, конечно, основываться на неверных предположениях относительно внешних обстоятельств и из-за этого нуждаться в пересмотре. Однако всегда будет наличествовать некий мыслимый набор внешних событий, который позволил бы осуществить план в первоначально задуманном виде.
Иначе обстоит дело с планами, намеченными одновременно, но независимо друг от друга некоторым числом людей. Во-первых, для осуществимости всех этих планов необходимо, чтобы они были составлены в ожидании одного и того же ряда внешних событий, поскольку если бы разные люди основывали свои планы на противоречащих друг другу ожиданиях, то никакой набор внешних событий не мог бы позволить осуществить их все вместе. И во-вторых, в обществе, основанном на обмене, планы каждого человека в значительной своей части будут состоять из действий, требующих согласующихся с ними действий со стороны других индивидов. Это означает, что планы различных индивидов должны быть в определенном смысле совместимыми, чтобы, хотя бы предположительно, они были способны их все реализовать[140]. Или, говоря иначе, поскольку часть данных, на основе которых всякий человек станет строить свои планы, будет состоять из ожиданий определенного образа действий других людей, для совместимости разных планов существенно важно, чтобы планы одного человека содержали именно те действия, которые образуют данные для планов другого.