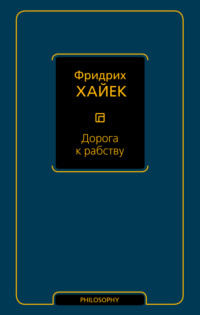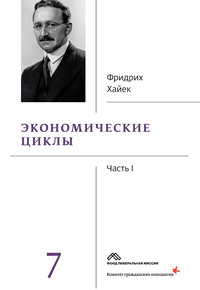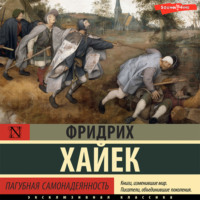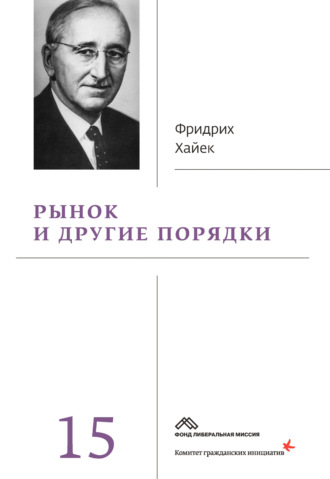
Полная версия
Рынок и другие порядки
В истории Нового времени общечеловеческая свобода, которую следует отличать от свобод-привилегий, доступных лишь меньшинству, вряд ли существовала где-либо ранее, чем в Англии XVII в.[180] Не приходится сомневаться, что это было огромным достижением страны, которая в следующем столетии стала предметом восхищения всей Европы и заложила основы грядущих успехов в Новом Свете. Сегодня нам трудно представить, насколько велико было различие в плане личной свободы между Англией и остальной Европой и насколько остро оно ощущалось обеими сторонами[181]. И если мы больше не чувствуем его, то, наверное, не столько потому, что за краткое время до первой Великой войны положение во многих европейских странах стало очень похожим на английские условия, сколько потому, что с тех пор большая часть уникальных особенностей английской свободы исчезла. В самом деле, то, что еще поколение тому назад английские и американские авторы считали досадными и нетерпимыми ограничениями свободы в странах континентальной Европы, с тех пор стало настолько знакомым в Англии, что многие представители младшего поколения едва ли знают, в чем заключалась хваленая английская свобода, и когда пересекают Ла-Манш, вряд ли замечают сколько-нибудь значительную разницу в этом плане.
Конечно, истоки английской свободы можно проследить и во времена более ранние, чем XVII в. Но для наших целей углубляться слишком далеко в историю нет необходимости. Достаточно сказать, что в начале XVII в., когда англичане начали борьбу за свободу, они могли сослаться на некоторые знаменитые документы из своей более ранней истории, но развернувшийся тогда процесс был, по сути дела, новым. Верно, конечно, что в Средние века вся Европа и в теории, и на практике знала о гарантиях личной свободы больше, чем сейчас принято считать[182]. Однако с подъемом абсолютной монархии эти гарантии в основном исчезли, и в Англии при Тюдорах им грозила со стороны организованной власти нового национального государства не меньшая опасность, чем в других частях Европы. Поэтому концепция ограничения властных полномочий, сформировавшаяся в ходе английской борьбы XVII в., действительно была новшеством. Если английские статуты, начиная с Magna Charta, великой «Constitutio Libertatis»[183], и значимы для формирования современной свободы индивидуума, то потому, что они служили эффективным оружием в этих теоретических баталиях. Возможно, они никогда не оказывались полностью забытыми и не игравшими никакой роли[184]; но едва ли можно сомневаться, что их формулировки приобрели свое современнее значение и свою важность именно потому, что эти документы использовались в диспутах XVII в.
Но, если для наших целей нам нет необходимости обращаться к истокам истории свободы в Новое время, я все же не могу полностью обойти молчанием другой источник представлений, которые будут главным предметом нашего внимания. Даже если бы Томас Гоббс не сообщил нам, что если говорить о восстаниях, «в частности, против монархии, то одной из наиболее частых причин таковых является чтение политических и исторических книг греков и римлян», и по этой причине «ничто никогда не было куплено такой дорогой ценой, как изучение западными странами греческого и латинского языков»[185], – все равно нельзя было бы усомниться в том, что новые движения в значительной мере вдохновлялись изучением <античной> классики.
3. ИсономияХотя сам факт огромного влияния классической традиции на новоевропейский идеал свободы неопровержим, природа этого влияния не всегда понимается правильно. Этому препятствует распространенное убеждение, что древние не знали индивидуальной свободы в современном значении этого понятия[186]. Применительно к некоторым местам и периодам это, по-видимому, верно, но безусловно неверно применительно к Афинам периода их расцвета. Хотя упадочная демократия, которую критиковал Платон, может порождать некоторые справедливые сомнения, нет никаких оснований сомневаться в свободолюбии тех афинян, которым в самый опасный момент сицилийской экспедиции их военачальник напомнил, что они сражаются за страну, где «люди наслаждаются свободой и где каждому дана возможность устроить свою частную жизнь независимо»[187].
Но чем же эта свобода «самого свободного из всех свободных государств», как в том же случае Никий назвал Афины, представлялась самим греками, а потом елизаветинцам, воображение которых она разжигала?
Ответ, по крайней мере частичный, мы находим в греческом слове; елизаветинцы заимствовали его у греков, но потом оно вышло из употребления. История этого слова как в Древней Греции, так и впоследствии весьма поучительна. «Исономия» появляется в Англии в конце XVI в. в одном словаре, где считается словом итальянским, обозначающим «равенство законов для всех людей без различия»[188]. Чуть позже, в 1600 г., оно уже вполне органично употреблялось в англизированной форме «isonomy» в переводе Ливия, где передавало представление последнего о равенстве всех перед законом и об ответственности должностных лиц[189]. В XVII в. оно использовалось довольно часто. «Равенство перед законом», «верховенство закона» и «господство права» – это более поздние версии смыслов, передаваемых заимствованным греческим термином.
Уже сама история термина в Древней Греции преподает нам любопытный урок. Вероятно, это первый пример цикла, который, видимо, повторяют цивилизации[190]. Первоначально данный термин описывал режим, который Солон установил в Афинах, когда «предоставил народу не столько контроль над государственной политикой, сколько гарантии того, что народом управляют по закону в соответствии с объявленными правилами»[191]. Как таковой, режим Солона противопоставлялся тираническому правлению[192], и именно эту исономию афиняне прославляли в народной застольной песне, сочиненной по поводу убийства одного из их тиранов[193]. Понятие исономии старше понятия демократии и имеет более общий характер; несомненно, из него-то и было выведено требование равного участия всех граждан в правлении государством. По мнению Геродота, именно «исономия», а не «демократия» «обладает преимуществом перед всеми другими уже в силу своего прекрасного имени»[194]. Даже после установления демократии понятие исономии некоторое время использовалось для обоснования народоправия, а позже, как справедливо было отмечено[195], все больше для маскировки того характера, который на самом деле приобрела демократия: демократический режим вскоре начал нарушать то самое равенство перед законом, из которого почерпнул свое обоснование. Греки прекрасно понимали, что эти два идеала хотя и связаны, но далеко не одно и то же. Фукидид, например, без колебаний говорит об «исономической олигархии»[196], а позже Платон совершенно сознательно интерпретирует «исономию» не как обоснование демократии, а как нечто от нее отличное[197].
В свете всего сказанного выше становится понятно, что в известном рассуждении из «Политики», где Аристотель описывает разные виды демократии, он на самом деле защищает идеал исономии. Как мы помним, он подчеркивает здесь, что «предпочтительнее, чтобы властвовал закон, а не кто-либо один из среды граждан», а если власть имеют несколько человек, «следует назначать этих последних стражами закона и его слугами»[198]. Особенно не нравится Аристотелю тот вид правления, когда «решающее значение предоставляется не законам, а постановлениям народа». По его мнению, такая демократия порочна, поскольку «там, где отсутствует власть закона, нет и государственного устройства; закон должен властвовать над всем». Более того, он считает, что «такое состояние, при котором все управляется постановлениями народного собрания, не может быть признано демократией в собственном смысле, ибо никакое постановление не может иметь общего характера»[199]. Если добавить к этому столь же известное место из «Риторики», гласящее, что «хорошо составленные законы главным образом должны, насколько возможно, все определять сами и оставлять как можно меньше произволу судей»[200], мы получим вполне законченную концепцию верховенства закона.
О том, насколько важным для афинян оставалась эта концепция, свидетельствует закон, который Демосфен в нескольких своих речах называет «настолько хорошим, насколько таким когда-нибудь бывал закон»[201]. Предложивший его афинянин исходил из того, что поскольку все граждане обладают равными правами, то законы должны относиться ко всем гражданам одинаково, и, соответственно, сформулировал закон так: «Неправомерно предлагать закон, затрагивающий какого-либо отдельного человека, если то же самое не будет применено ко всем афинянам». Это стало законом Афин. Когда он был принят, мы не знаем; Демосфен упоминал о нем в 352 г. до н. э. Но весьма примечательно, что к тому времени уже демократия стала основным понятием, из которого теперь дедуцировалось более раннее представление о всеобщем равенстве перед законом. Хотя Демосфен, как и Аристотель, больше не использует термин «исономия», ясно, что данный случай он интерпретирует в духе этого старого понятия.
О том, что эти греческие концепции оказали прямое влияние на английскую мысль XVII в., свидетельствует полемический обмен мнениями между Томасом Гоббсом и Джеймсом Харрингтоном, который, видимо, и ввел в употребление формулировку «правление законов, а не людей». По мнению Гоббса, «второй ошибкой “Политики” Аристотеля является положение, что в хорошо организованном государстве должны управлять не люди, а законы»[202]. На это Харрингтон возразил: «Способ, посредством которого гражданское общество людей устанавливается и сохраняется на основании общего права или интереса… – это, если последовать за Аристотелем и Ливием… верховная власть закона, а не людей»[203].
В ходе XVII в. влияние древнегреческих мыслителей на английскую политическую мысль все больше замещалось влиянием древних римлян. Главными источниками, из которых заимствовалась та же самая традиция, стали Ливий (перевод которого ввел в английский обиход термин «исономия» и на которого, как мы только что видели, ссылался Харрингтон), Тацит и прежде всего Цицерон. Цицерону мы обязаны многими формулировками идеала свободы под властью закона, которые оказались самыми удачными в устах английских протагонистов политической свободы, а позже в сочинениях Монтескье. Именно Цицерон утверждал, что мы повинуемся закону, чтобы быть свободными[204], и что должностное лицо – это всего лишь глашатай закона[205]. В этот классический период римского права вновь пришло осознание того, что между свободой и законом нет конфликта: дает нам закон свободу или нет, зависит от определенных общих свойств закона, от того, насколько широко он применим и точен и насколько способен ограничивать произвол властей.
Но свобода, которую создает равенство перед законом, опять была принесена в жертву новым массовым требованиям иного рода равенства. В период Поздней Римской империи строгое законодательство применялось все меньше, поскольку государство в интересах новой социальной политики стремилось усилить контроль над экономической жизнью[206]. При императоре Константине <272–337> начался процесс, в результате которого, по словам известного знатока римского права, «абсолютная верховная власть провозгласила наряду с принципом равенства господство воли императора, не связанной никаким законом. Юстиниан <483–565> и его ученые юристы довели этот процесс до логического конца»[207].
4. Борьба с привилегиямиСейчас не всегда осознают, что борьба между Короной и Парламентом в Англии, в ходе которой эти старинные принципы вновь возобладали, велась главным образом вокруг проблем экономической политики, схожих с теми, которые в наше время вновь находятся на острие политических дискуссий. Историкам, жившим в XIX в., действия Якова I и Карла I, провоцировавшие конфликт, возможно, казались архаичными злоупотреблениями, лишенными всякого интереса. Но для нас некоторые споры, порожденные периодическими попытками королей учредить промышленные монополии, имеют очень знакомое звучание: Карл I намеревался даже национализировать всю угольную отрасль и отказался от своих планов лишь после того, как его предупредили, что это может привести к восстанию[208].
С тех самых пор, как в известном «Деле о монополиях»[209] суд постановил, что предоставление исключительных прав на производство определенной продукции «противоречит общему праву и свободе подданных», Парламент неизменно отстаивал перед Короной требование равных прав для всех граждан. Англичане тогда, видимо, лучше, чем мы сейчас, понимали, что регулирование производства всегда означает создание привилегий типа «что дозволено Петру, то не дозволено Павлу». Однако первая знаменитая формулировка принципа верховенства закона появилась в связи с экономической мерой другого рода: Жалобное прошение 1610 г. было вызвано ограничениями, наложенными королем на строительство в Лондоне и на изготовление крахмала из пшеницы. Я просто обязан привести отрывок из знаменитого заявления Палаты общин, в котором особо выделяю места, выражающие суть ее позиции: «В числе многих прочих условий счастья и свободы, которыми подданные Вашего Величества располагали в этом королевстве при Ваших королевских предках, королях и королевах этого государства, ни одно не считалось столь дорогим и ценным, как руководиться и управляться несомненной властью закона (rule of law), который наделяет главу государства и его граждан тем, что принадлежит им по праву, и не подчиняться неопределенной или произвольной форме правления. Поскольку это условие проистекло от изначально доброго устроения и характера этого государства, оно было главным средством поддерживать такое состояние, при котором короли были справедливы, любимы, счастливы и блистательны, а само королевство было мирным, процветающим и крепким в течение стольких веков… Из этого корня произросло то личное право людей этого королевства не подвергаться никаким наказаниям, затрагивающим их жизни, земли, тела и имущество, кроме тех, которые установлены общим правом этой страны или статутами, принятыми с их общего согласия в Парламенте»[210].
Дальнейшее развитие этой «измышленной вигами доктрины верховенства закона», как презрительно называли ее социалистические юристы, тесно связано с продолжительной борьбой против предоставляемых правительством монополий и, в частности, с дебатами вокруг Статута о монополиях 1624 г. Именно по этому поводу сэр Эдвард Кок, великий творец многих принципов вигов, занялся истолкованием Великой хартии вольностей, которое позволило ему заявить (со ссылкой на Дело о монополиях): «Если некто получает исключительное право на изготовление карт или занятие любым иным ремеслом, такое пожалование противоречит законному праву и свободе подданных… и, следовательно, противоречит Великой Хартии»[211].
У меня нет необходимости прослеживать дальнейшее развитие этих идей в интеллектуальной и политической полемике XVII в., и я лишь кратко коснусь классического их изложения во «Втором трактате о правлении» Джона Локка. Я просто напомню вам, видимо, самое важное место, в котором Локк, явно возражая тем, кто понимает свободу как отсутствие любых правовых ограничений, определяет свободу так: «Свобода людей в условиях существования системы правления заключается в том, чтобы жить в соответствии с постоянным законом, общим для каждого в этом обществе и установленным законодательной властью, созданной в нем… и не быть зависимым от непостоянной, неопределенной, неизвестной самовластной воли другого человека»[212].
Прочее содержание главных правовых принципов Локка я приведу в краткой формулировке выдающегося американского правоведа: «Закон должен быть общим для всех, должен предоставлять всем равную защиту; он не может быть правомочным, если имеет обратную силу, и должен вводиться в действие судами, поскольку законодательная власть не включает в себя судебную власть»[213]. К этому я добавлю только, что для Локка ограничение произвола властей, включая власть законодательную, является предварительным условием защиты прав индивидуумов, их «жизней, свобод и владений, что, – говорит он, – я называю общим именем “собственность”»[214]. И еще я хочу обратить ваше внимание на редко замечаемое новое обоснование, которым он подкрепляет всю свою программу: это то, что мы сейчас называем «укрощением власти». Вот слова Локка: «Причина, по которой люди вступают в общество, – это сохранение их собственности; и цель, ради которой они избирают и уполномочивают законодательный орган, заключается в том, чтобы издавались законы и устанавливались правила в качестве гарантии и охраны собственности всех членов общества, дабы ограничивалась власть и умерялось господство каждой части и каждого члена общества»[215].
5. Традиция XVIII в.Если усилиями XVII в. базовый принцип был успешно обоснован, то окончательное утверждение верховенства закона в Англии в основном стало результатом работы XVIII в.[216] О том, какое значение со временем приобрели достижения <Славной> революции, лучше всего судить по трудам историков, которые объясняли своим современникам смысл событий. Как весьма справедливо было замечено, для Давида Юма подлинный смысл истории Англии заключался в переходе от «произвольного правления к правлению законов»[217]. Особенно примечательно суждение Юма об упразднении Звездной палаты в 1641 г.[218], из которого ясно видно, что именно он считал самым важным изменением государственного устройства в предшествующем столетии: «В то время в мире не было ни одной системы правления, – да, пожалуй, и во всех анналах истории ее не найти, – которая не имела бы примеси властного произвола, принадлежащего тому или иному должностному лицу; и можно было бы со всем основанием заранее усомниться в том, что человеческое общество когда-нибудь сможет достигнуть столь совершенного состояния, что не будет поддерживать себя ничем иным, кроме общих и строгих принципов права и равенства. Однако Парламент справедливо рассудил, что король является слишком высоким должностным лицом, чтобы оставлять за ним право решать все по своему усмотрению, ибо такую власть он может с легкостью обратить на разрушение свободы. И в результате было решено, что, хотя правило строгого следования закону сопряжено с некоторыми неудобствами, эти последние настолько перевешиваются преимуществами, что англичане должны навеки чтить память своих предков, которые после непрестанной борьбы в конце концов утвердили этот благородный принцип»[219].
Во второй половине столетия этот принцип как несомненная основа английских свобод постоянно фигурирует в политических диспутах и в более систематических текстах политических философов. Классическая его формулировка встречается во многих известных высказываниях Эдмунда Бёрка. Конечно, для полноты картины следовало бы привлечь мнения некоторых его менее видных современников[220], но здесь я вынужден ограничиться лишь немногими особенно важными высказываниями. Одним из них можно считать сделанное мимоходом замечание о данном принципе в «Богатстве народов» Адама Смита; оно показывает, что к тому времени он стал в Англии чем-то само собой разумеющимся. Смит кратко поясняет, что в Англии «общественная безопасность не требует, чтобы государь был наделен неограниченной властью» даже для подавления «самых грубых, неосновательных и своевольных выступлений», поскольку «он охраняется хорошо организованной постоянной армией»[221].
В основе этого замечания лежит убеждение, что при «устойчивом и совершенно законном правлении» государь, будучи главнокомандующим армией, «не станет пускать ее в дело, пока не получит на то разрешения, т. е. пока не будет наделен полномочиями для такого шага». Это мнение побудило одного из самых проницательных иностранных исследователей британского государственного устройства сделать весьма важные выводы относительно уникального положения, достигнутого тогда в Англии. «Самая характерная особенность английского государственного устройства и самое явное, какое только может быть, подтверждение подлинной свободы, которая является следствием этого устройства», пишет Жан Луи де Лолм, состоят именно в том, что в Англии «все действия индивидуума по умолчанию считаются правомерными, пока не будет указан закон, которому они противоречат… Основание этого принципа или этой доктрины, которые ограничивают пользование государственной властью, выражено в действующем законе». Этот закон восходит к Великой хартии вольностей, но фактически стал действовать только после упразднения Звездной палаты: «В результате выяснилось, что небывалое ограничение властных полномочий, которое мы имеем в виду, есть не более чем то, что могут допускать действительное положение вещей и прочность государственного устройства»[222].
Наиболее полное из мне известных обоснование всей доктрины содержится в книге архидиакона Пейли «Основы моральной и политической философии», глава «Отправление правосудия»: «Первый принцип свободного государства состоит в том, чтобы законы принимала одна группа людей, а в исполнение приводила другая; иными словами, в том, чтобы законодательные и судебные полномочия были отделены друг от друга. Если эти полномочия совмещены в одном лице или в одной группе лиц, тогда специальные законы принимаются для частных случаев, часто проистекают из пристрастных соображений и направлены на достижение личных целей. А пока они отделены друг от друга, одна группа людей принимает общие законы, не задумываясь о том, к кому конкретно они могут быть применены, а после принятия законов другая группа применяет их к тем, кто подпадает под их действие… Если бы стороны и интересы, могущие подпасть под действие законов, были известны, симпатии законодателей неизбежно склонялись бы в пользу той или другой стороны. А там, где, таким образом, не существовало бы ни четких правил, регулирующих решения законодателей, ни более высокой власти, способной их контролировать, предпочтения законодателей неизбежно вошли бы в противоречие с публичной справедливостью
Даже если заключительная часть рассуждения Пейли дышит слегка самодовольным оптимизмом, который нам трудно разделить, все равно это рассуждение в моих глазах имеет огромную важность, ибо, насколько мне известно, впервые сводит воедино все те основные элементы, которые XIX век принимал как нечто само собой разумеющееся под именем верховенства закона. Более того, Пейли идет еще дальше: вводя критерий непредсказуемости воздействия закона на конкретных людей, он предлагает самое ясное из мне известных обоснование общего принципа. Я вернусь к этой теме, когда буду последовательно обсуждать весь комплекс принципов, на которых основано царствование закона. Но прежде, чем я смогу перейти к этому, мне нужно завершить обзор исторического развития.
Если говорить об Англии, то там общая концепция в основном сложилась к концу XVIII в. Конечно, и потом вносились некоторые важные дополнения и уточнения; так, например, Джон Остин предлагал четко отличать законы в собственном смысле, т. е. имеющие общий характер, от постановлений или приказов, связанных с конкретными обстоятельствами[224]. Но в общем и целом принцип верховенства закона в Англии XIX в. не вызывал никаких вопросов и до конца столетия почти не обсуждался. И хотя в некоторых отношениях этот процесс оказался на удивление незавершенным, то, что было достигнуто, стало твердо усвоенной политической традицией, которая не сталкивалась с серьезными вызовами вплоть до нашего времени.
6. Утверждение личных прав в АмерикеЗадача систематизации и дополнения этой концепции выполнялась преимущественно континентальными, в первую очередь французскими авторами, которые хотели разъяснить миру, чего же достигла Англия. Труды ряда авторов, в частности Монтескье, в свою очередь, оказали влияние на английскую и особенно на американскую мысль (а приведенный выше текст Пейли ясно показывает его влияние). Однако, прежде чем я в следующей лекции перейду к рассмотрению теоретических достижений континентальной Европы, я самым кратким образом покажу, насколько глубоко описанная мною английская традиция повлияла на американскую концепцию свободы. В частности, я остановлюсь на трех пунктах, которые имеют первостепенное значение, и начну с той важной роли, которую формулировка «правление законов, а не людей» сыграла в американской традиции. Она фигурирует в конституции штата Массачусетс 1780 г.[225], в постановлениях главного судьи Маршалла[226] и во многих других судебных постановлениях вплоть до нашего времени. Далее, в конституциях многих штатов Союза заметно стремление четко разграничить законы как таковые и конкретные предписания[227], а также, естественно, в них часто фигурирует недвусмысленный запрет законов, имеющих обратную силу. Наконец, что весьма примечательно, в постановлении того же главного судьи Маршалла подчеркивается принципиальная непредсказуемость конкретных обстоятельств применения беспристрастных законов[228]. Хотя известные слова о том, что «общие законы, сформулированные в ходе тщательного обдумывания, не подверженные влиянию пристрастия и не нацеленные ни на кого конкретно», относятся в первую очередь к уголовному праву, их значение гораздо шире.