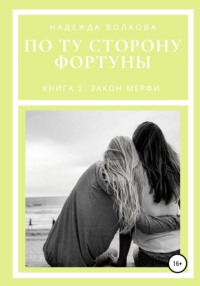Полная версия
Я выбираю солнце
– Покрасилось?
– Да-а! Зави-ивка! Краси-иво!
– Что ж тут красиво-то? – ответила довольная баба Рая, оглядываясь в створки трильяжа. – Красиво у тебя, рыбонька моя. Ни в коем случае богатство такое не отрезай. От все твои женихи будут, все. Вырастешь, нальёшься фигурой, от кавалеров отбою не будет.
Златка прыснула, прикрыв рот ладошками, вспомнила Андрюшу и тоже посмотрела на своё отражение. В отблесках от люстры тёмно-зелёная радужка расцвечивалась рыжими искорками. Личико девочки напротив таинственно сияло, не в силах спрятать такой жизненно важный секретик.
– Никак влюбилась, рыбонькая моя? – спросила баба Рая, прижимая Злату к себе. Она упряталась в тёплый живот и нараспев прошелестела:
– Да-а-а.
Шестилетка знала о любви всё: влюбилась – это так хорошо-хорошо, потому что в жизни есть Андрюша и он скоро приедет.
Вопрос «когда» звучал каждый день, как только папа возвращался с работы и подхватывал дочь на руки. Угрюмое лицо его менялось в миг, улыбка разъезжалась широко и приподнимала скулы, носогубки из скорбных становились весёлыми.
– Поцелую, дай, сначала, – смеялся папа, подбрасывая Злату вверх, да так, что дух захватывало. Она пищала от счастья и милостиво позволяла ему приложиться к нежной щёчке. Детским чутьём безошибочно определила – он нуждается в ней также сильно, как и она в Андрюше. Отцовские глаза в эти минуты темнели до глубоко синего, казалось, даже его аккуратно стриженые волосы блестят ярче. Сто миллион раз Злата видела папину льняную макушку, она всегда задорно светилась от ажурного «чесского» плафона в прихожей.
– Через месяц приедет твой Андрюша, каникулы начнутся и приедет.
– Сколько дней ещё?
– Тридцать, – ответил папа и звонко приложился к Златкиному носику. Она вздохнула обречённо, крепко обняла его и сказала: – До-олго. Порисуем пока?
– Конечно, Солнышко.
Рисовать она обожала. Фломастерами, красками, мелками, всем, что попадало под руку. Гуляла с бабой Раей и в хорошую погоду непременно оставляла на парковых дорожках нехитрую детскую картинку – солнышко, ёлочки, облака, о которых так хотелось пошептаться с Андрюшей. В Москве они другие: налитые тяжестью, плывут еле-еле, порой зависают над головой, даже страшно становится – вот-вот упадут. Дома, набегавшись вволю, затихала, замирала над альбомом. Рука у неё оказалась стремительной, лёгкой, уже в первых рисунках просматривались точно подмеченные детали – папа богатырь, косая сажень в плечах, вроде бы и улыбается, но грусть-тоска угадывается в углом вычерченных бровях, в чуть заметных штрихах заломов у носа. Мама же, хоть и плохо её помнила, пляшущий мотылёк с лицом лукавого ангела и длинными светлыми волосами, разметавшимися от ветра. На ней обязательно корона и летящая синяя юбка, одна нога у мамы согнута в колене и отведена в сторону, как фокстрот танцует. А между мамой и папой Злата и, конечно, Андрюша. Все держатся за руки.
Папа часами просиживал с дочерью, затачивал карандаши, собирая кудрявую цветную стружку в газетный кулёчек, увлечённо смешивал акварельные краски, менял воду в стаканчике. Смотрел, как Злата, положив кончик языка на нижнюю губу, старательно вырисовывает первые шедевры.
– Ты мой Тициан, – как-то сказал он, целуя в макушку. – И по таланту и по цвету.
– Синий? Белый? – она попробовала угадать, с ходу выпалив любимые цвета. Оторвалась на время от раскрашивания домика. Он притаился под навесом высоких деревьев с огромными диковинными листьями, рядом девочка с огненной шапкой волос и мальчик, ему успела только голову нарисовать.
– Нет, – улыбнулся папа. – Рыжий, идём, покажу что-то.
И за руку повёл в удивительную страну, завораживающую вселенную с несметными сокровищами большого искусства. Первое знакомство с ним состоялось через серию альбомов «Мастера мировой живописи» издательства «Аврора». Изумлённая Злата не сводила глаз с глянцевых картинок, впала в неподвижное состояние, сидя на коленках у папы. Широко раскрытыми, почти немигающими глазами, впитывала, втягивала в себя линии, тона, мазки, наложенные уверенной рукой. Блики, перебегающие по листам то вверх, то вниз, оживляли лица, руки, тела, высвечивая все оттенки кожи, под которой так явственно пульсировала настоящая, живая кровь.
– Она нарисованная? – прошептала Злата, и недоверчиво провела ладошкой по женскому лицу. Очаровательно-розовый, свитый из невидимых солнечных лучей, невесомый портрет лукавого ангела с Андрюшиными глазами.
– Да, Солнышко. Это работа французского художника Ренуара, портрет актрисы Жанны Самари.
– Не-ет! Это ма-ама!
Папа смешался, а Злата соскользнула с его колен и помчалась в свою комнату, схватила альбом и бегом назад.
– Смотри, смотри!
Как детский мозг зафиксировал и сохранил столь точные воспоминания, а потом и выразил их через рисунок ни дочь, ни отец так и не смогли понять за всю жизнь. Но это, действительно, оказалась мама, только волосы не белые, а рыжие, как у Златы. Совсем скоро она встретилась с ней. Не с мамой, с картиной.
Папа после работы должен был заехать на Курский вокзал и забрать с электрички Бабаню с Андрюшей. Злата весь день суетилась, готовилась, примеряла наряды, задёргала бабу Раю.
– Смотри, красиво? – в который раз спросила она, поддерживая двумя руками подол розового сатинового платьица с яркими клубничками. Покружилась вокруг себя и застыла в ожидании похвалы.
– Да красиво-то красиво, только холодно уже, оденься потеплей. Иди, заплету, что ж ты у меня распустёха такая.
– Потом!
И вновь бежала переодеваться, ворохом сбрасывала с себя одёжку на кровать. В итоге остановилась на плиссированной красной юбочке и розовой водолазке. Причёску сама себе мастерила, всё хотела как на мамином портрете Ренуара. И так и эдак пробовала, сопела, пыхтела, но тяжёлые волосы норовили рассыпаться и свободно раскинуться по плечам. Измучилась, пришлось просить помощи. С альбомом под мышкой отправилась на кухню.
– Так мне сделай, – сказала бабе Рае, подсовывая ей картинку с портретом Жанны Самари и зажатые в кулачок шпильки и невидимки.
Та улыбнулась понимающе и принялась за работу. Втыкала шпильки Злате в голову и озабоченно спрашивала:
– Не больно?
– Не-ет, – врала она, щурясь от болезненного поскрёбывания. Ради такой красоты для Андрюши вытерпеть могла что угодно, скальп сдирай, не пикнет.
– Не носись теперь, не ровён час, развалится всё. Модница-огородница!
Медленно, царственно, Злата продефилировала в прихожую с альбомом в руках, покрутилась у зеркала – ух ты! Смотрела то на себя, то на картину, сравнивала, оценивала, что-то жеманно подправила возле ушка. Полностью довольная собой, пошла в подарок Андрюше рисовать его портрет. Сосредоточенно смешивала краски, отжимала кисточку, две синие точечки оживили лицо на белой бумаге. Скорей, скорей показать бабе Рае, совсем настоящий получился!
В такие важные моменты, как часто бывает, вдруг что-то идёт не так. То ли чрезмерная суетность в этот день сыграла роль, то ли неуёмное желание художника побыстрее донести до благодарной публики не просохший шедевр. Соскакивая со стула, она зацепила развёрнутым альбомом стаканчик с водой. Дзынь! Он опрокинулся на бок и серая муть плеснулась со стола на юбочку, водолазку, белые колготы. Только и успела спасти свой рисунок, задрав альбом повыше. Хоть плачь, весь тщательно продуманный наряд коту под хвост.
На шум прибежала баба Рая и застала подопечную в грязно-бурых разводах, с высоко поднятыми руками и распухшими от близких слёз глазами.
– Ничего, ничего, быстренько подотру и переоденемся, – подбадривала баба Рая.
Злата изо всей силы сжимала губы, старалась не расплакаться, когда её взрослая красивая причёска застряла в узком горлышке водолазки. Она вообще-то такую одежду и не любила. Снимаешь её, а уши всегда прищемленные, нос задирается кверху, волосы тянутся вслед и неизменно процесс сопровождается писклявым – ай-я-яй! Но уж больно хотелось походить на портрет Ренуара.
Кое-как пропихнули голову вместе с растрепанной причёской. Переодеться Злата успела, а на волосы дверной звонок времени не оставил. Так и предстала она перед Андрюшей – хмурая, нахохлившаяся, взлохмаченная.
– Чтой-то как не родные? – спросила Бабаня. – Ни здрасьте, ни обняться. Позабыли друг дружку?
Папа стоял у входной двери, старательно сдерживал улыбку и подтолкнул растерявшегося Андрюшу. Почему-то он был другой – молчаливый, застенчивый, словно боялся и Москвы, и папы, и Златы.
Она исподлобья всматривалась в его лицо, заново узнавая, привыкая к милым чертам, к непривычной недетской серьёзности. Без слов сунула ему в руки подсохший рисунок.
– Это я! – с восхищением сказал он. Такая знакомая улыбка разъехалась от уха до уха, сощурила васильковый взгляд, вздёрнула пуговку веснушчатого носа, возвращая Злате её Андрюшу.
И уже не важно, что вместо розового-воздушного на тебе приземлённо-коричневый, на голове куриное гнездо, а десять минут назад ты готова была рыдать в три ручья и от досады выплакать все глаза до донышка. Твой мир, замкнутый на одном человеке, брызжет фейерверком, переливается многоцветьем, и ширится, простирается необъятно, и нет ему края. Безусловная, всепоглощающая, бескорыстная любовь возможна только в детстве, когда мозг ещё не забит штампами и социальными клише, и ты живёшь интуитивно, сердцем. Точно знаешь, чёрное это чёрное, а белое, разумеется…. Ты не умеешь ещё фальшивить, и даже если врёшь, то врёшь с честными глазами потому, что за спиной пальцы благоразумно сложились в крестик, а значит «не щитоба». И это совсем не враки, а сочинялки, Андрюша так сказал. В ответ такая же подлинная, беспредельная любовь. Слышащая, чувствующая, понимающая каждую глубокую детскую мысль. Вся жизнь на ближайшие несколько лет для Златы сложилась от каникул до каникул, от Андрюши до Андрюши.
Парк «50 лет Октября» оставался одним из немногих спокойных островков в бурлящей, колобродящей перестроечным варевом, Москве. Гремела по стране перестройка, твёрдой поступью печатала шаг, взбудораживая народ новыми веяниями и новыми идеями. Народ, который ещё недавно не смел пикнуть и даже вслух помыслить о каких-то своих правах, вдруг в момент осознал – коммунизм мы теперь будем строить свободно, через демократию, гласность и, принудительно, через всеобщую трезвость. Но тревожные звоночки зазвенели повсюду: в первых талонах на сахар, в длиннющих очередях за всем. Подходишь, спрашиваешь – что дают? Так и не дождавшись ответа, встаёшь в хвост. Если все стоят, значит надо брать, что дадут.
Злата нудно выстаивала с бабой Раей в спёртом воздухе душных гастрономов. Воняло там всегда тошнотворной смесью запахов залежалой рыбы, подгнивших овощей и чёрт знает какой кислятиной. Благовоние это шибало в нос, Злата прикрывалась ладошками и с обречённостью приговорённого к казни мостилась у огромного окна. Иногда по нескольку часов стояли на улице, первая уличная торговля только-только входила в повседневную жизнь. Терпеливо ожидали, когда придёт «наш черёд» и толстая тётка в белом фартуке поверх грязного халата отсыплет, отвесит и обвесит. Злата терпеть не могла эти стояния, а куда деваться?
– Есть-то надо, – наставительно говорила баба Рая, – попрыгай лучше.
Только чего прыгать возле серых, угрюмых людей и таких же мрачных, как больных со струпьями отвалившейся штукатурки, домов? Не прыгалось.
Парк же – тихая заводь, куда москвичи приходили отдохнуть от обрушившихся с голубых экранов пламенных речей об ускорении и новом мышлении. Неспешно бродили, цепляясь за привычное в этой кувырком летящей жизни. Парк в то время ещё оставался оазисом первозданной природы. Осень дышала тёплой сыростью от земли, серебрила утренним бисером ажурные ветки облетевших берёз, но по-прежнему хранила богатую палитру. Щедрой рукой вброшены краски в дивный парковый уголок: ржаво-коричневая, алая, ярко-жёлтая, охристая всех оттенков. Они вспыхивали, искрились в лучах внезапно проглянувшего солнца. Под ногами упруго пружинили грунтовые дорожки, перекатывала воды стылая Раменка. Большой мир был где-то далеко-далеко, а здесь только размеренный покой, охапки листьев, да короткое счастье на одну неделю с Андрюшей.
Они спустились к берегу речки. Андрюша нашёл коричневое стекло от бутылки, сожмурил один глаз и сквозь стекляшку посмотрел на солнце.
– Ры-ыжее!
– Дай, ну дай посмотреть!
– На, только осторожно, не обрежься.
Злата взяла аккуратно, прищурилась и от неожиданности ахнула – всё, абсолютно всё заиграло удивительной игрой красок. Бронзовое солнце не слепило, наоборот, манило в расплывчатое потайное сияние. Повсюду разбросало медно-красные, тёмно-оранжевые пятна и оторваться от этого великолепия просто невозможно.
– А ну, брось сейчас же! – угрожающий возглас обеих бабок вытянул из художественной созерцательности. Злата с неохотой швырнула стекло в воду.
Эпизод этот по непонятной причине врезался в память и прочно занял там легкодоступный уголок в лабиринтах мозга. К нему она возвращалась часто, как притомившийся скиталец приникает к роднику, чтобы испить живительную силу и идти дальше. Почему наша память так избирательна, так отчётливо фиксирует мельчайшие штрихи, казалось бы, проходного события – неизвестно. Но застывшие мгновения всплывают неожиданно, ты с удивлением сознаёшь – помнишь всё в цвете, чувствуешь запах, слышишь голоса далёких картин своего детства.
В субботу папа повёз их в Пушкинский музей. Поначалу хотел взять обоих за руки, но Злата не позволила. Уверенно выступала посерёдке, крепко держась за двух главных мужчин в жизни. Только в метро пришлось уступить. В этом муравейнике, среди суматошливо снующих по обе стороны людей, оторваться и потеряться можно запросто. Метро она всегда побаивалась, не эскалатора или молниеносно вылетающих из чёрного провала поездов, это само собой. Больше пугало непрестанное мельтешение тёмных человеческих фигур, от чего кружилась голова и слегка подташнивало. Папа прижимал детей к себе, а Андрюша даже бровью не повёл, не показал, что ему тоже боязно. Поднял голову вверх и с повышенным вниманием изучал глубокую обратную лунку как для инопланетных летающих тарелок. Злата точь-в-точь скопировала позу и глазам своим не поверила – на самом деле, не так и страшно, если смотреть в потолок, а не на людей. Андрюша всё знает и всему научит! Детская мантра.
Папа провёл их вверх по ступенькам меж античных колонн в глубину музея. Здесь можно было за него не держаться, только друг за дружку.
Откуда у отца такая тяга к искусству, столь глубокие познания, необычные для простого деревенского парня из тульской глубинки, Злата узнала намного позже. А первая встреча с настоящими полотнами, не альбомными репродукциями, запомнилась на всю жизнь.
Притихшие, они с Андрюшей сцепились ладошками и шаркали по пустынным залам мимо сонно клюющих носом бабулек на стульях. Музейная тишина расцвечивалась папиным негромким голосом. Влюблённый в живопись, дозировано, аккуратно вталкивал в голову дочери эту любовь. Выбирал ракурсы, откуда полотна предстают в наиболее выгодном свете, отводил подальше вплотную прилипших к ним детей. Злата с удивлением подмечала – они, картины, всегда разные, живые. Долго стояла у «Голубых танцовщиц» Дега, вдумчиво повторяла позы замерших, как перед полётом ввысь, балерин. Запоминала, считывала, улавливала и сама не знала зачем. Папа улыбался, довольно кивал, а Андрюша просто светился – глаза лучились, не отрывались от увлёкшейся Златы, улыбка смущённо – умилительная, уши на просвет опять розовые. Неподдельная гордость за сестрёнку-подружку переполняла.
– Смотри, смотри, так? – спросила она, ещё раз приложив ручки к плечам, совсем как балерина на картине.
– Да, – мотнул головой Андрюша, а папа засмеялся тихонечко.
Нежданное свидание с мамой на картине Ренуара повергло в замешательство. Злата сначала даже не поняла, потрясённая, посмотрела на отца, но и его лицо вытянулось ошеломлённо. Знал или нет, что встретит её здесь? Вряд ли, интернета в России ещё не было. Возможно, если бы знал, то ни за что бы не привёл дочь в Пушкинский музей.
Деланным бодрячком он поспешно сказал:
– На-адо же! Как нам повезло!
– Мама, – убеждённо заключила Злата, прилепившись взглядом к знакомому лицу.
– Жанна Самари, доченька. Идите сюда.
Он поманил пальцем, они подошли и… о, чудо! Зелёное платье женственной красавицы вдруг стало синим! Злата отбросила Андрюшину руку, перебежала на прежнее место – нет, зелёное! Она открыла рот от изумления и повернулась к Андрюше, он подошёл, глаза его удивлённо округлились.
– Видишь? – почему-то шёпотом сказала Злата.
– Вижу, – так же чуть слышно сказал Андрюша и захлопал ресницами.
Она снова опрометью кинулась к папе, глянула сбоку – синее! Волшебство, платье заколдованное!
– Девочка, в музее бегать нельзя, – рявкнула скрипучим голосом встрепенувшаяся ото сна старушка-одуван, и папе: – Товарищ посетитель, смотрите за ребёнком!
– Простите, простите, – спешно проговорил тот и подтолкнул детей дальше.
Злата на прощанье оглянулась на маму – нет, всё-таки, зелёное, и опять ухватилась за тёплую Андрюшину ладонь.
Глава третья
После каникул папа пристроил её в кружок рисования неподалёку от дома. Мелюзгу там принимали охотно, одним юным художником меньше, одним больше – значения не имело. Преподаватели усаживали ребятишек рядками, объявляли вольную тему: малюй, что хочешь, а сами рассредоточивались по очередям в близлежащих магазинах. Оставался один смотрящий, как правило, седенькая, интеллигентнейшая Изольда Павловна в неизменном шёлковом платочке на тонкой шее. Невысокая, хрупкая, вся какая-то дымчатая: выцветшие серые глаза, стянутые к затылку в коротенький хвостик волосы, сама прозрачная. Фиолетово-зелёные вены и артерии проступали замысловатым рисунком на обсыпанных старческой гречкой руках. Сколько ей было? Неизвестно, но какие это были руки! Хоть и обтянутые пергаментом кожи, но изящные, с тонкими длинными пальцами, они жили отдельной жизнью, никак не желая мириться с паспортным возрастом. Уверенно скользили простым карандашом, свободно взлетали в чарующем вальсе акварели, кружились в менуэте, смешивая краски. Злата, как заворожённая, смотрела за этими руками, и не могла оторваться. Как же хотелось вот так легко, грациозно священнодействовать над девственно белым листом! И она старалась, очень старалась, взмахивала рукой и разбрызгивала кистью во все стороны. Именно Изольда Павловна первая высмотрела, угадала в ней незаурядные способности.
– Вы голубчик, девочку не упустите. Ребёнок способный к живописи, – сказала она папе, когда пришёл после работы за дочерью.
– Спасибо. Как вы думаете, шанс у нас есть в художественную школу поступить?
– Конечно, если хотите, могу подготовить.
На короткое время квартира Изольды Павловны на Фрунзенской набережной стала для Златы средоточием жизни, подлинной волшебной шкатулкой, напичканной удивительными вещами. Каждое посещение этого крохотного мира впечатывалось в мозг вместе с хрипловатым, чуть надтреснутым от курения, голосом наставницы.
– Немецкие часы, конец прошлого века, – пояснила Изольда Павловна и погладила Злату по голове.
Она замерла у настенного чуда тёмного дерева с башенками и пилястрами. Часы мелодично отбивали удары каждый час, медный маятник с белой сердцевиной мерно покачивался из стороны в сторону и вводил в состояние транса. Взгляд бессознательно двигался за ним – туда-сюда, туда-сюда. Под его ритмичные отстукивания квартира превращалась в настоящий дворец, а Злата, разумеется, в принцессу. Как без этого?
– Идём, детонька, идём, позанимаемся сначала.
Детонька с трудом отрывалась от часов и переключалась на большой старинный буфет. Он грузно раскорячился гнутыми львиными ножками, тускло поблёскивал лакированной поверхностью столешницы, а на ней множество фарфоровых статуэток тончайшей работы. Вот игриво приподняла длинное голубое платье цветочница у лотка, показывая изящную ножку в коричневой туфельке. А это белоснежная балерина застыла в пируэте, пополам перерезанная балетной пачкой. Другая, из той же серии, но уже изогнулась в поклоне, а третья тянет ногу в чистейшем арабеске. Целая коллекция музыкантов в чёрных котелках с красным пёрышком, а ещё влюблённые парочки, зверушки, птички. Маленький пастушок в соломенной шляпе присел на пенёчке со свирелью в руках. Злата раззявой не была, ворон попусту не считала, но от этого роскошного великолепия дух захватывало, хотелось всё пощупать, погладить. Баба Рая строго-настрого наказала ничего в чужом доме не трогать, приходилось изо всех сил прижимать руки по швам, шагать в мастерскую как солдат по команде «смирно».
Изольда Павловна изъяснялась необычно, старомодно – буфэт, зала, извольте-с, «Нет, нет, этот цвэт, детонька, категорически не подходит». Всегда приветливая, уважительная, чем сразу снискала благосклонность бабы Раи. К этим визитам она старалась настряпать что-нибудь вкусненькое.
– Гостинца прихватим дамочке, худющая как щепа, – говорила она.
Всякий раз старушка отвечала:
– Ну, что вы, право, Раечка…. А, впрочем, голубушка, великодушно благодарю!
Картины на стенах в простых массивных рамах, английские кресла с изогнутыми спинками, в которые так хотелось присесть, ощутить прикосновение прохладного шёлка. В тон к ним тяжёлые портьеры оливкового цвета. Подвязаны они были шнуром с кисточками, рука настойчиво требовала дотронуться до них. Однажды это удалось, пока обе бабульки увлеклись обсуждением родимого пятна на лысине Горбачёва. Полный восторг – гладкие, мягкие на ощупь, как пёрышки, разбросанные в деревенском птичнике, да ещё и золотые. Пара небольших комодиков с витиеватым резным орнаментом, высокий потемневший секретер с огромным количеством ящичков. Необыкновенный мир омрачался знакомым запахом валерьянки, старости и забвения. Как будто всё это драгоценное наполнение никому не нужно.
Злата хорошо запомнила свои ощущения, когда совсем нечаянно, только на минуточку, взяла пастушка и быстро сунула в карман-муфту зелёной шерстяной кофточки. Опустила взгляд на выпяченный живот – топорщится, а на буфэте остался кружочек посреди пыльного налёта. Вытащила фигурку и поставила тихонько назад. Нет, так на Андрюшу похож, снова проворно схватила и в карман. Послышались шаги, старушки почаёвничали и пришла пора распрощаться до следующего раза. Злата мгновенно достала пастушка и со стуком поставила опять, целясь в полированное чистое пятно. Щёки начало жечь нестерпимо, пальцы непроизвольно сложились в кулаки и забрались в карманы. Ничего не сделала, не нашкодила, тогда почему так стыдно? На всякий случай опустила голову и пришпилила взгляд к сколотому краешку столешницы. Сантиметра полтора всего, но он отпечатался в сознании как связь с нехорошим поступком. Почти невесомая рука опустилась на задеревеневшее плечо.
– Нравится?
– Д-да.
– Кто больше всех понравился?
Злата ткнула пальцем в пастушка, не поднимая головы.
– Возьми.
– Можно? – вскинула глаза и поймала одобрительный взгляд над ласковой улыбкой.
– Можно, детонька, можно. На память.
И теперь уже бесповоротно маленький сельский музыкант переселился в шерстяной карманчик, а оттуда во всю Златкину жизнь, окрашивая её нежными переливами одинокой свирели.
Небольшая мастерская Изольды Павловны была забита под завязку: картины и подрамники притулились прямо на полу вдоль стен, самодельные полки тянулись в два ряда по обеим сторонам до окна и на них тоже рисунки, наброски, этюды. В углу, на тщательно убранном, без следов пыли, столе – армия стеклянных пол литровых банок с кисточками, карандашами и мастихинами. Под ним обшарпанный венский стул да синяя деревянная табуретка. Два простеньких мольберта-раскладушки сиротливо застыли вполоборота у окна, улавливая солнечный свет пустыми фанерными прямоугольниками. Другой – солидный, как статная графиня, тренога, стоял отдельно. Опирался широко расставленными циркульными ногами, проскользнуть мимо него надо было аккуратно, не зацепившись. На нём незаконченный портрет совсем юной девушки с высоко поднятыми каштановыми волосами, абрикосовыми щёчками и печальным взглядом. Она сидела у окна, за которым нависли тяжёлые серые тучи.
– Давно учеников не было, – извиняющимся тоном сказала Изольда Павловна. – Людям сейчас не до искусства.
Она терпеливо передавала виртуозное владение простым карандашом, крепкой рукой фиксируя его в непослушных Златкиных пальцах.
– Уверенней, уверенней, это твой первый друг в живописи.
Столько новых слов пришло в жизнь – набросок, палитра, пастель, рефлекс. Злата схватывала жадно, запоминала с лёту и вечерами пересказывала папе до мельчайших деталей. Стояние в очередях перешло в стояние у мольберта и от этого возникало удивительное ощущение избранности и взрослости. Баба Рая добровольно взяла на буксир щуплёнькую старушку и добывала пропитание на два дома, пока обе художницы вдохновенно творили. Изольда Павловна встрепенулась, ожила и заканчивала портрет на треноге. Работала без очков, только щурилась. Злата же училась накладывать акварель слой за слоем, отрисовывать из хаотично нанесённого круга то цветочный горшок с бархатной лиловой глоксинией, то стаканчик с линейкой. Постоянно поглядывала на учителя, восхищённо смотрела как та короткими, отточенными мазками наносит цветовые пятна на холст. Копировала позы и жесты, как губка поглощала в себя незримую аристократичную ауру этой женщины.