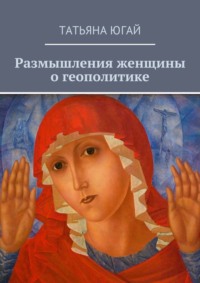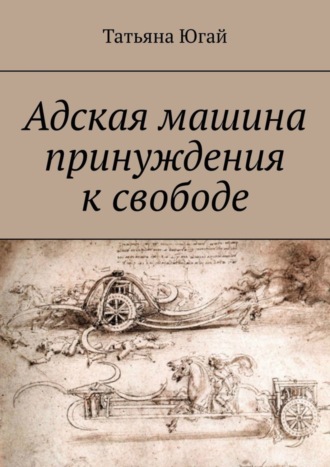
Полная версия
Адская машина принуждения к свободе
Она приводит убедительные примеры многоликости основных персонажей, однако, самым типичным представителем являлся Аслунд. «Наиболее эффективные и влиятельные трансакторы чрезвычайно искусны в работе над множеством ролей и идентичностей. Одним из таких вездесущих трансакторов являлся Аслунд, бывший шведский посланник в России, который работал с Саксом и Гайдаром. Аслунд, казалось, одновременно представлял и говорил от имени американских, российских и шведских правительств и властей… Хотя он был частным лицом, гражданином Швеции, он, тем не менее, участвовал во встречах на высоком уровне в Казначействе США, Государственном департаменте по вопросам политики США и МВФ. Аслунд также занимался бизнесом в России и на Украине. По данным Департамента организованной преступности МВД России, он имел „значительные“ инвестиции в Российской Федерации» [255].
4. Взаимозаменяемость. «Индивидуальная маневренность отдельных лиц, которую давала транс-идентичность, также присутствовала на уровне группы. Группа Гарвардского института, хотя формально представляла США, также представляла группу Чубайса. Так, иногда американские чиновники и следователи, запрашивавшие встречи с русскими, вместо них перенаправлялись к американцам. При лоббировании в США контрактов на оказание помощи России группа Гарвардского института постоянно ссылалась на свой доступ к российским „реформаторам“ в качестве своего основного преимущества; это было на самом деле ключевым компонентом их работы по связям с общественностью. В свою очередь, Гарвард выступал от имени клана Чубайса на встречах с политиками США и американскими фондами» [255].
5. Неподотчетность и самоувековечение. «Трансакторы в значительной степени были выше формальной ответственности. Группа расставляла своих членов на различные должности для выполнения собственных задач, которые могли противоречить интересам правительства или общественным интересам, которым они якобы служили. В результате получалось подобие игры в музыкальные стулья. Например, Государственный комитет по имуществу возглавлялся чередой трансакторов Чубайса, среди которых были сам Чубайс, Максим Бойко и Альфред Кох. Эти же лица также занимали различные ключевые позиции в Российском приватизационном центре при Гарварде-Чубайсе». Ведель делает предположение, что «Трансакторы Чубайса вряд ли исчезнут в России при Владимире Путине» [255]. К сожалению, предсказание Ведель оказалось верным. За почти 20 лет, прошедшие со времени ее разоблачений, сам Чубайс сменил не одно руководящее кресло, а трансакторы более мелкого калибра продолжают процветать.
Ведель переходит от исследования частного случая группы Гарварда-Чубайса к более широкому обобщению. Она пишет: «Американо-российский опыт трансакционизма интересен и тревожен не только сам по себе, но и потому, что такой способ действий может стать более распространенным способом ведения транснациональных взаимодействий в XXI веке. В условиях продолжающегося процесса глобализации национальная принадлежность участников становится все менее актуальной. Глобальные элиты, имея более тесные связи друг с другом и реже с национальными государствами, позиционируют себя не столько как американские, бразильские или итальянские, сколько как члены эксклюзивного и очень мобильного многонационального клуба, правила и нормы которого еще предстоит написать» [255].
Публикация Ведель не осталась незамеченной ее главными героями, которые написали в редакцию журнала The National Interest письма, пылавшие праведным гневом. В том же году вышло продолжение «Грязные трансакции: обмен мнениями». Завязалась дискуссия, хотя ее нельзя назвать подлинно научной. Со стороны главных персонажей она напоминала базарную перепалку типа «сам дурак». Были опубликованы ответы Сакса и Аслунда, которые больше похожи на самооправдания по отдельным мелким пунктам. О самой концепции они даже не упоминали. Видимо, нечем было крыть. Так, Сакс, оскорбленный сомнениями Ведель в том, что он официально работал на правительство России, выдает себя с головой. «Несмотря на странные намеки д-ра Ведель, что у меня не было консультативной роли при президенте Ельцине, он официально назначил нас советниками во время встречи 13 декабря 1991 г. Мы получили офисы в Совете министров в 1992 году и в Министерстве финансов в 1993 году. До конца 1992 года мы с Аслундом главным образом консультировали исполняющего обязанности премьер-министра Егора Гайдара, а в 1993 году мы возглавляли подразделение в министерстве финансов России, консультируя вице-премьера Бориса Федорова» [228]. Налицо явный конфликт интересов, поскольку Сакс официально представлял США. При этом крайне наивно выглядит его заявление о том, что Ельцин официально назначил их советниками без ссылки на соответствующие документы, т.е. указы или, по крайней мере, распоряжения президента.
Что характерно, от клана Чубайса на обвинения Ведель никто так и не среагировал. Как она пишет в заключительном слове, «в статье представлена теория трансакторства, способ организации отношений между народами. И Сакс, и Аслунд оглушительно молчат по этому центральному вопросу и не пытаются опровергнуть теорию, либо критический набор фактов, подтверждающих ее» [228].
В подборке были также приведены отзывы в поддержку концепции Ведель, в частности, Уэйна Мерри, директора Программы по европейским обществам с переходной экономикой при Атлантическом совете США. Он пишет, что наблюдал основные недостатки политики США в отношении России, когда работал в политическом отделе посольства США в Москве в 1991—1994 годах. Таким образом, он был непосредственным свидетелем событий, о которых пишет Ведель.
Он отмечает три основных порока американского подхода. «Прежде всего это было невежество, поскольку поставщики „Вашингтонского консенсуса“ выпустили на волю свою догму в стране, которую они не понимали и, что еще хуже, не хотели понимать. Затем было высокомерие на многих уровнях: вера в то, что „Вашингтонский консенсус“ воплощает в себе высшую экономическую истину (несмотря на его явные провалы); реагируя на любые сомнения относительно этой догмы обвинениями в ереси и нелояльности; взгляд на Россию как на экономическую пустошь (тот факт, что ей удалось построить все эти ракеты, они просто игнорировали) и как лабораторию для усовершенствования экономической теории… И, наконец, лицемерие, поскольку официальные представители Вашингтона утверждали, что были „шокированы, потрясены“, когда санкционированные правительством коррупцию и кражу государственной собственности в России было невозможно больше скрывать». Мерри завершает свой краткий, но емкий комментарий довольно загадочной и пессимистичной фразой о том, что Ведель «до сих пор видела только верхушку айсберга и то, что остается „засекреченным“, намного хуже» [228].
Интересно, узнает ли наше поколение всю правду, какой бы горькой она ни была?! «Во многом знании много печали…» сказано в Екклесиасте.
2. Властелины Вселенной или волшебники страны Оз?
Поскольку страна была красивая и зеленая, я решил назвать город Изумрудным. А чтобы название лучше усвоилось, я велел его жителям носить зеленые очки: так они все видели в зеленом свете… Мои подданные носят зеленые очки так давно, что большинство из них и впрямь считает, что город – изумрудный.
Лаймен Ф. Баум, «Удивительный Волшебник из Страны Оз» (1900)
В 2017 году в России была издана книга Дэниела Стедмен-Джоунза «Рождение неолиберальной политики: от Хайека и Фридмана до Рейгана и Тэтчер» (М.: Мысль, 2017). Правда, название русской версии значительно скучнее оригинального Masters of the universe: Hayek, Friedman, and the birth of neoliberal politics и вдобавок несколько смещены акценты. Если перевести буквально, то будет выглядеть примерно так: «Властелины Вселенной: Хайек, Фридман и рождение неолиберальной политики».
Стедмен-Джоунз обыграл название популярного одноименного фильма «Властелины вселенной», а я, в свою очередь, сравню Хайека и Фридмана с героем моей любимой детской книжки «Удивительный Волшебник из Страны Оз», которую изучала в английской спецшколе в качестве домашнего чтения. Кстати, с этой книжкой тоже произошла досадная метаморфоза. Детский писатель Александр Волков перевел книгу Лаймена Баума на русский язык под названием «Волшебник Изумрудного города» и опубликовал под собственным именем. Тогда ведь не существовало копирайта. В моей детской книжке в Изумрудном городе жил великий и ужасный Волшебник, который нагонял страх на жителей города и заставлял их носить зеленые очки. Однако смелая девочка Дороти со своими верными сказочными друзьями разоблачает Волшебника. Он оказывается безобидным старичком, который не умеет колдовать, но является талантливым мистификатором. Если снять зеленые очки, то город оказывается самым обычным, а не изумрудным.
На мой взгляд, Стедмен-Джоунз чересчур демонизирует Хайека и Фридмана, приписывая им сверхъестественные могущество и влияние. Долгое время они были обычными учеными, известными только в узких кругах, а не великими и ужасными Волшебниками, которые заставили весь мир носить зеленые неолиберальные очки. У меня весьма сложное, почти личное отношение к ним. Я открыла их довольно поздно в эпоху гласности и перестройки и попала под их очарование, несмотря на то, что до этого преподавала политическую экономию, марксистскую, разумеется. Сначала я, как и все, зачитывалась Хайеком, а Фридмана открыла позже. Прошло почти 30 лет, и я снова достала первые российские издания книжечек в бумажных переплетах с закладками и пометками на каждой странице. Впечатление было такое же, как если бы я снова перечитала детскую сказку «Удивительный Волшебник из Страны Оз». Признаться, я была разочарована.
Потеряв надежду найти в трудах интернациональной команды приватизаторов в России сколь-нибудь научное доказательство гипотезы о более высокой эффективности частной собственности по сравнению с государственной, я решила обратиться к их чикагским гуру. Сразу стало понятно, откуда был позаимствован безапелляционный и менторский тон, который не предполагал никаких доказательств; только обвинения государства во всех мыслимых грехах и восхваление частной собственности. Скажу сразу, я не нашла того, что искала и у «властелинов Вселенной». Перечитывая когда-то так поразившие меня книги неолиберальных кумиров, я испытывала некое чувство стыда за то, что в свое время так легко поверила их обещаниям свободы. Когда начались процессы гласности и перестройки, я жадно вдыхала воздух свободы, единственное чего мне по-настоящему не хватало при социализме. Я смотрела на либеральные реформы сквозь розовые очки и взахлеб читала неолиберальные опусы.
Теперь после четверти века либеральных реформ, которые до неузнаваемости изменили мою страну, я могу более или менее трезво оценить доктрину, которая лежала в их основе. Я называю неолиберализм доктриной потому, что строго говоря, он не отвечает критериям научной теории. Ее создатели еще оставались учеными в первой половине ХХ века, но перестали быть таковыми, когда принесли научную беспристрастность в жертву безудержной пропаганде свободного рынка. Секрет притягательности их трудов чрезвычайно прост. Они говорили то, что люди хотели услышать. Для этого не нужно было ничего доказывать. Читателю нужно было убедиться в собственной правоте. В послевоенные годы их немногочисленную аудиторию составляли студенты, которым они преподавали, хотя университетские коллеги смотрели косо, и консервативные бизнесмены. Тэтчер и Рейган увидели в их трудах теорию, которую можно было подстелить под их экономические реформы. А когда либеральная пропагандистская машина начала работать на полных оборотах, тогда академическое сообщество и обыватели приняли их на веру.
2.1. Монпелеринские мудрецы
В далеком послевоенном 1947 году произошли два мало кем замеченных события, которые исподволь начали менять облик нашего мира. 1 апреля в идиллическом швейцарском курорте Мон Пелерин состоялось неформальное собрание группы ученых, известных тогда лишь узкому кругу посвященных. Теперь имена некоторых из них получили мировую известность. В тот апрельский день около 40 участников съехались из стран Западной Европы и США, чтобы в течение десяти дней обсуждать волновавшие их вопросы. Большинство участников были учеными; двадцать были экономистами, еще восемь представляли такие науки, как право, история, философия, политология и химия. Среди гостей были также бизнесмены, журналисты и аналитики. Инициатором этого ученого собрания был австрийский экономист Фридрих фон Хайек, в то время профессор Лондонской школы экономики и политических наук. Незадолго до этого в Великобритании и США была издана его книга «Дорога к рабству» (The Road to Serfdom, 1944), которая с тех пор стала библией неолиберализма.
Почему почтенные ученые и их последователи организовали научную конференцию в столь уединенном месте в условиях строгой конспирации, как заговорщики, замышлявшие государственный переворот? Сейчас это трудно представить, но после войны либерализм был, мягко говоря, мало популярен в академических и политических кругах. Те, кто его исповедовал, чувствовали себя чуть ли не изгоями, а по меньшей мере – маргиналами. После Великой депрессии, которая впервые продемонстрировала опасности нерегулируемого рынка, парадигма свободного рынка сменилась кейнсианской теорией, обосновавшей необходимость государственного регулирования экономики. Успехи социалистической индустриализации, проведенной впечатляющими темпами, и решающая роль СССР в победе над фашизмом способствовали распространению идей социализма. Мобилизация национальных экономик в условиях Второй мировой войны и рационирование продуктов питания в послевоенное время привели к усилению государственного регулирования в Западной Европе, США и Японии. Увеличение роли государства в экономике вызывало раздражение и беспокойство у либеральных ученых и представителей большого бизнеса.
Развитие этих тенденций побудило Хайека написать «Дорогу к рабству». Успех книги в США окрылил его, и он решил создать некий клуб единомышленников. Во время триумфального турне по США он встречался со старыми соратниками, такими как его учитель Людвиг фон Мизес, а также новыми сторонниками и будущими спонсорами. Хайек направил приглашения 50 ученым, из которых откликнулись 36 человек. После года подготовительной работы конференция, наконец, состоялась. Поначалу Мизес отнесся довольно скептически к этой инициативе, и только благодаря мягкой настойчивости своего ученика и спонсорской поддержке, он решился на поездку из США в Европу.
Вступительное слово Хайека задало тон не только дискуссиям на конференции, но и всему последующему неолиберальному дискурсу на долгие годы. Хайек определил повестку послевоенной идеологической реконструкции классического либерального движения. Для этого было необходимо, с одной стороны, «очистить традиционную либеральную теорию от некоторых случайных наростов, которые с течением временем приросли к ней» и, с другой стороны, «подготовиться к решению некоторых реальных проблем, которых избегал чрезмерно упрощенный либерализм или которые проявились, когда он превратился в застывшее и жесткое кредо» [141].
Следует отметить, что участники конференции несмотря на свои либеральные взгляды не представляли монолитного единства. Учитель Хайека Мизес был тогда типичным представителем старой гвардии классического либерализма. Сам Хайек, Милтон Фридман и Фриц Махлуп уже были неолибералами. Виктор Ойкен и Вильгельм Рёпке были немецкими ордолибералами и теоретиками социальной рыночной экономики. Бертран де Жувенель, Фрэнк Найт, Майкл Полани, Карл Поппер и Джордж Стиглер были либеральными социал-демократами. Морис Алле и Лайонел Роббинс представляли крайне левую ветвь либерализма. Между участниками существовали разногласия, например, по вопросам государственного контроля за денежно-кредитной политикой, роли религии, минимальной заработной платы и уровню обеспечения благосостояния, допустимому для свободной экономики. Некоторые участники, такие как Рёпке и Раппард, полагали, что либерализм должен был сдерживаться стремлением современного человека к безопасности. Мизес опасался, что такие уступки станут первым шагом на пути к рабству. Во время заседания, посвященного распределению доходов, некоторые участники высказывались в поддержку идеи прогрессивного подоходного налога, а Мизес возмущенно воскликнул: «Все вы – кучка социалистов!» [87]. Хотя участники не обязательно разделяли общую интерпретацию причин или последствий, однако, они видели опасности в расширении роли правительства, и, в первую очередь, в государстве благосостояния, во власти профсоюзов и монополий, а также в сохранявшейся угрозе и реальности инфляции.
Хайеку удалось направить дискуссии в конструктивное русло и завершить конференцию принятием Заявления о намерениях. Документ, принятый 8 апреля 1947 года, начинался пафосно: «Главные ценности цивилизации в опасности». Во многих странах «существенные условия сохранения человеческого достоинства и свободы уже исчезли», а в других они «находятся под постоянной угрозой». «Даже самое ценное достояние западного человека – свобода мысли и выражения находится под угрозой». В Заявлении указывалось, что «этому способствовало снижение веры в частную собственность и конкурентный рынок; ибо без децентрализованной власти и инициативы, связанной с этими институтами, трудно представить общество, в котором свобода может быть эффективно сохранена» [238].
Группа подчеркивала, что не намерена создавать ортодоксальное учение, учреждать или присоединяться к какой-либо политической партии или течениям, или вести пропаганду. Предполагалось сосредоточить усилия на изучении таких вопросов как: 1) «Переопределение функций государства для более четкого различия между тоталитарным и либеральным порядком». 2) «Методы восстановления верховенства права и обеспечения его развития таким образом, чтобы отдельные лица и группы не могли посягать на свободу других и частные права, что могло стать основой хищнической власти». 3) «Возможность установления минимальных стандартов средствами, не противоречащими инициативе и функционированию рынка» [238].
Несмотря на принципиальные разногласия, встреча, в целом, прошла успешно. Главным результатом было основание Общества Мон Пелерин 9 апреля 1947 года и избрание Хайека президентом. В ноябре того же года общество было официально зарегистрировано в США как некоммерческая организация. Его заявленной целью было «изучение политических, экономических, исторических, нравственных и философских аспектов гражданского общества, имеющих отношение к институциональным и организационным условиям, совместимым со свободой мысли и действий». Долгое время всей деятельностью Общества управляли сам Хайек, который был президентом с момента основания до 1961 года, и европейский секретарь Альберт Хунольд [87].
Как указывается на официальном сайте Общества, многие из его индивидуальных членов были известными и влиятельными персонами. Некоторые из них впоследствии были министрами в правительствах различных стран или высшими должностными лицами и даже президентами или премьер-министрами, среди них – Людвиг Эрхард в Германии (1963—1966), Луиджи Эйнауди в Италии (1948—1955), Март Лаар в Эстонии (1992—1994; 1999—2002), Ранил Викрамасингхе в Шри-Ланке (1993—1994; 2001—2004; 2015—2018 и с 2018 года) и Вацлав Клаус в Чешской Республике (2003—2013). Однако все они достигли этих высоких постов как индивидуумы, а не как представители Монпелеринского общества, подчеркивается на сайте.
Я столь подробно останавливаюсь на первых шагах Монпелеринского общества потому, что, во-первых, мне как научному работнику, было интересно открыть для себя (и надеюсь для читателя) малоизвестные факты об этом и по сей день довольно закрытом научном сообществе и то как Хайек занимался его продвижением и поисками спонсоров. Я с удивлением узнала, что те, кого сейчас называют «властелинами Вселенной», сталкивались с такими же проблемами, как и любой современный ученый, трудностями с публикациями трудов, финансированием исследований и организацией конференций. Я отношусь к этому периоду их деятельности с сочувствием и даже симпатией.
Во-вторых, мне хотелось проследить зарождение неолиберального движения, и в этом смысле собрание в Мон Пелерине представляет собой момент его зачатия, исходный пункт, хотя почти четверть века после этого неолиберализм продолжал находиться в латентном состоянии. Общество было своего рода спящей террористической ячейкой.
В-третьих, в дискуссиях на учредительной конференции в той или иной форме прозвучали практически все ключевые темы, которые волновали либеральное сообщество. Впоследствии некоторые из них, такие как вмешательство государства в экономику, получили приоритетное развитие в выступлениях и публикациях монпелеринцев. Однако с течением времени некоторые подходы изменились и даже произошли повороты на 180 градусов, это, в первую очередь, относится к трактовке конкуренции и монополии.
И, наконец, любопытно было узнать, что столь могущественное движение вылупилось из яйца в столь скромных условиях. Я имею в виду, что первыми спонсорами были не миллиардеры, а мало кому известные фонды или отдельные бизнесмены. Фонд Волкера финансировал транспортные расходы американских участников для поездки на учредительное заседание в 1947 году; на протяжении многих лет щедрые пожертвования поступали от ряда европейских и американских фондов [87]. Тогда ведь не существовало всемогущих «Коктопуса», Сороса и т. п. Интересен тот факт, что Хайек обращался за поддержкой к Рокфеллерам с просьбой пожертвовать 5 тыс. долл., но получил отказ. Тогда он планировал собрать 30 тыс. долл. для организации ежегодной конференции Монпелеринского общества в США, но так и не смог. Получается, что для поддержания общества на плаву счет шел всего на несколько десятков тысяч долларов в год, что не идет ни в какое сравнение с авансом в миллион долларов, который Березовский и Гусинский выдали Чубайсу и Коху на написание книги о приватизации, которая так и не была написана. А жаль. Может быть там они, наконец, дали бы научное обоснование приватизации и объяснили, почему частная собственность эффективнее государственной.
Еще более неприметным событием, случившимся в том же году, была смерть Уильяма Волкера 4 ноября 1947 г. в американском Канзас-Сити. Однако эти два события оказались связанными невидимой, но прочной нитью, протянувшейся в Европу из-за океана. Волкер не был ученым либерального толка. Он был успешным предпринимателем, который создал с нуля фирму по производству аксессуаров для интерьера и превратил ее в многомиллионный бизнес. В 1932 году Волкер направил половину своего состояния в благотворительный фонд Уильяма Волкера (Volker Fund). В уставе фонда указывалось, что он будет «заботиться о больных, престарелых и беспомощных»; «обеспечивать средства и условия для физического, умственного, морального и духовного совершенствования людей»; «улучшать условия жизни и работы» и поддерживать «образование и учебные заведения».
По жестокой иронии судьбы наследник Уильяма Волкера и его душеприказчик Гарольд Лахнау оказался большим поклонником трудов Хайека, и, особенно, «Дороги к рабству», являясь ярым сторонником неолиберализма. Под руководством Лахнау Фонд сместил фокус внимания с благотворительной деятельности в Канзас-Сити и начал оказывать финансовую поддержку Монпелеринскому обществу с целью пропаганды мировоззрения австрийской школы в США2. В первые годы существования Общества Мон Пелерин фонд Волкера был одним из немногих, кто финансировал расходы по организации собраний. При финансовой поддержке Фонда Фридрих Хайек оказался в Чикагском университете. Фонд также оказывал помощь ряду либеральных ученых, членам Общества, которые в то время не могли получить должности в американских университетах, таким как Мизес и Аарон Директор. Я так подробно пишу о фонде Волкера потому, что меня поразило столь благоприятное для Общества стечение обстоятельств, которое привело к тому, что после смерти основателя фонда его средства стали служить для финансовой подпитки неолиберализма, по самой своей сути, глубоко враждебного той благородной социальной деятельности, которой занимался сам Волкер.
Более двух десятилетий Монпелеринское общество было в буквальном смысле тайным, т.е. о его существовании было известно только посвященным. Этот статус сохранялся не только потому, что оно особо себя не афишировало, но главным образом, потому, что время его еще не пришло, и идеи, которые оно продвигало не очень интересовали широкую общественность. Между тем, Общество занималось вполне нормальными для научной организации рутинными делами. Проводило ежегодные конференции в разных странах. Учредило пару дочерних организаций. Его члены активно публиковали научные труды, преподавали в университетах и бизнес-школах по обе стороны Атлантики, участвовали в научных дискуссиях, выступали перед бизнес-сообществом. Мирная академическая жизнь внезапно и приятно прервалась в 1970-х годах.