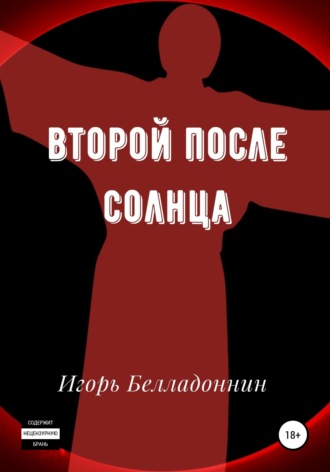
Полная версия
Второй после Солнца
– Спокойно! – потребовал Аркаша. – Ты, который с сошкой, ты у нас что – совесть нации? Тогда где твой сертификат? Феодализм он тут, видите ли, недостроил! Его и без тебя достроят. А прогресс тебе всё равно не остановить! Иди лучше проспись! – бросил он Павлу напоследок из окошка своего монструозного лимузина (выпущенного по эскизу Аркаши в виде томика Глюкова) с зелёной мигалкой.
Я не люблю, когда ходят строем: я не могу ни идти в строю, ни пойти против строя, ни пройти сквозь строй. Для первого я слишком самобытен, для второго – пожалуй, слабоват, для третьего – рационален не в меру. И меня ожидаемо начинает мутить от себя-красножопого, от Витюши и от витюшинцев.
Я догоняю Витюшу и кладу руку на красное кожаное плечо.
– Верной дорогой идёте, товарищ, – заверяю я.
– Вы думаете? – не очень уверенно спрашивает он.
– Идёте брать Центробанк?
– Нет, мы просто гуляем, просто гуляем на свежем воздухе – это полезно.
Да он остроумен!
– А кто же будет брать почтамт? Телеграф? Мосты? Вокзалы? Дедушка Троцкий? – горячо, в порыве революционного энтузиазма, интересуюсь я.
И всё-таки я остроумнее.
– Вокзалы? – переспрашивает он. – Но революционный момент ещё не вызрел.
– Я боюсь, он уже перезрел, – возражаю я, – и скоро он совсем сгниёт, ваш момент. А ведь с такими бойцами, – я обвожу рукой наш старушечий батальон, – можно брать хоть Кремль, хоть Горки-9. Взяв же Горки, вы автоматически становитесь президентом, а я – так и быть, стану премьером при вас.
Витюша мнётся:
– Премьера я уже обещал.
– Ладно, мне хватит и первого вице, – миролюбиво соглашаюсь я.
– Может, всё-таки лучше начать с моста или вокзала? – осторожно спрашивает Витюша. – Чем с Кремля? И тем более с Горок?
Я смотрю на него с восхищением: он рождён для великих дел.
– Вокзал – это будет сильно, – отвечаю я, – это будет вызов, это будет самый сильный вызов режиму за всю эпоху. Савёловский? Рижский?
Витюше больше по душе Рижский («Оттуда можно двинуть на Ригу, где угнетают наших собратьев», – доходчиво объясняет Витюша). Очевидно, ему мало наших, отечественных буржуев, он должен сразу сразиться со всем миром зла.
– Сила есть, знание есть, вера есть, вокзал есть. Почему же он до сих пор не взят? – сурово вопрошаю я.
Витюша пытается оправдаться тем, что вокзал до сих пор был не нужен.
– Это вокзал-то не нужен? – с лёгким недоумением спрашиваю я. – Классиков надо читать почаще!
Классики добивают последние Витьковы сомнения.
– Идём прямо сейчас? – вскидывается он, загоревшись яркой красной звездой.
– Сначала выработаем план, проведём рекогносцировку, устроим маёвку, – остужаю я его почти юношеский задор.
– Маёвку – осенью? – изумляется Витюша.
– Ну не тянуть же до зимы? – изумляюсь уже я.
Похоже, Витюшу так увлекли идеи составления плана штурма вокзала и осенней маёвки, что он решает через мегафон досрочно распустить своё войско.
– Спасибо, товарищи, – темпераментно, захлёбываясь слюной, вещает Витюша, – сегодня мы утёрли нос этим сытым гадам, этим кровопийцам трудового народа! Сегодня мы приблизили светлый миг нашей победы, сегодня враг увидел, как мы сильны и сплочённы! Сегодня враг задрожал! Завтра враг побежит! Послезавтра он запросит пощады! Но пощады не будет!
– Пощады не будет! – повторяет сотня стариковских глоток.
– Аркаша, вот вы – величайший из когда-либо живших на Земле людей, – так начал интервью с Аркашей телеведущий – тоже, впрочем, достаточно великий – как и любой, достигший звания телеведущего.
«А ведь он прав, шельмец, – вслух подумал Аркаша. – Ишь, как режет, шельмец, правду-матку!»
– Продолжайте в том же духе, – подбодрил он ведущего. – Я слушаю, мне кажется, пока вы не отошли далеко от истины. Отклонитесь – я вас поправлю.
Телеведущий зарделся от Аркашиной похвалы.
«Он ещё может смущаться? – с удивлением подумал Аркаша уже не вслух. – Выходит, не совсем он ещё конченый, хоть и ведущий?»
– Тошно мне, один я планетарного масштаба вундеркинд на Земле – вот вам ещё одна истина, ещё один маленький кусочек истины, – неожиданно признался он прямо в прямой эфир. – Где вы, вундеркинды, братья мои, ровные мне, кому мог бы я передать эстафетную палочку служения человечеству?
– Позвольте, позвольте, позвольте сразу к вопросам! – закудахтал телеведущий, ошарашенный страшной бездной раскрывшейся перед ним истины.
Аркаша сумрачно кивнул:
– Давайте, сейчас всё вам выложу: про наследников, про зачатие, про плодовитость, про дедушку Ленина…
Но телеведущий достал «Таймс», на первой полосе которой был помещён снимок Аркаши в Британском музее носом к носу – вернее, к дырке от носа – с черепом неандертальца.
– Позвольте узнать, что вы думали в этот момент? – задал он достаточно оригинальный вопрос.
– Сами придумали вопрос? Хороший вопрос. «Знал ли он обо мне? Думал ли обо мне?» – вот о чём размышлял я, глядя на этот череп, – честно признался Аркаша.
– То есть, вы задавались вопросом: читал ли он вас? Любил ли он вас? – опошлил Аркашину мысль ведущий. – Хорошо, очень, очень хорошо, мы надеемся, да, все мы надеемся, что он, конечно же, вас читал и, конечно же, он вас любил, как все мы, земляне! Теперь позвольте – вот я выбираю наугад из этой огромной кучи вопросов – ага, вопрос телезрительницы. «Когда вы под известным всему миру псевдонимом писали свои знаменитые трагедии так называемого английского цикла – что вы, Аркаша, ощущали?» – спрашивает наша смелая телезрительница из города … Алпатьевска!
– Во-первых, я отправлялся прямо на место – в Верону, в Хельсингёр, в Фамагусту, в замок Кавдор84, в Венецию – чтобы пощупать, попробовать на вкус, обнюхать, а в какой-то даже степени и обозреть все те места, которые решился описать, – ответил Аркаша, зевнув; ему надоело отвечать на этот вопрос. – Во-вторых, я ощущал себя там длинноволосым усатым англичанином эпохи Возрождения в камзоле с преогромным воротником.
– Блестящий ответ! – восхитился телеведущий. – Теперь вопрос от меня, если позволите, мы будем их чередовать: из кучи, от меня, из кучи, от меня… Конфликт в так называемом Соково. Как вы полагаете, нам нужно ввязываться в этот конфликт или лучше оставаться в стороне?
– Да, – сухо ответил Аркаша.
Телеведущий закашлялся, но не рискнул развивать тему. Вместо этого он прибегнул к маленькой мести, снайперски выудив из сотен тысяч вопросов не самый для Аркаша приятный:
– Второй вопрос из кучи: «Аркаша, как вам в ваши-то годы в вундеркиндах-то живётся-поживается?» – не без ехидства спрашивает безрассудно отважный телезритель из посёлка … Супонево!
– Я же не просто вундеркинд, я – вундеркинд Земли русской, а земля наша русская всегда была и вечно пребудет – и я всегда пребуду для неё бесконечно юным – на её-то фоне – и столь же бесконечно талантливым! – спокойно отвечал Аркаша. – Всё. Интервью окончено, мне надо идти. Мне невтерпёж, я иду искать братьев по разуму, которых здесь не наблюдаю. А про зачатие сами чего-нибудь наплетите.
Его и раньше называли «вундеркинд-переросток».
– Ну да, – посмеивался тогда Аркаша, – я – вундеркинд довольно зрелый.
– Аркаша, вы самый зрелый из когда-либо живших на земле вундеркиндов, – пеняли ему иногда не самые воспитанные из землян.
– Я юн душой, – отвечал на эти гнусные поддёвки Аркаша, – хотя, может быть, уже и состоялся как вполне зрелый мыслитель.
– Один только ещё вопрос – от себя лично! – взмолился телеведущий: ох, как он пожалел, должно быть, о своей так некстати приключившейся мести. – А мог бы, например, вот я стать вундеркиндом?
– Таких не берут в вундеркинды! – на ходу весело ответил Аркаша.
Последним, что запечатлели студийные телекамеры, был Аркашин ботинок, летящий в кучку папарацци, карауливших вундеркинда у дверей студии.
Выходя из телецентра в одном ботинке, Аркаша вместо братьев по разуму, толпы поклонников или хотя бы журналистов был неожиданно атакован безногим нищим.
– Вот вы, Аркаша, – вы знамениты, хороши собой, богаты, знатны, а я – ничтожен, нищ, я мерзок даже самому себе, так подайте ж мне копеечку, подайте! – так говорил Аркаше безногий нищий, разъезжая вокруг него на своей тележке.
– Брат мой, сын мой, отец мой! На, возьми мою славу, забирай мой талант, наслаждайся моей родовитостью, но копеечку – не трожь! Не трожь копеечку! Ибо нажита она честным трудом – и не вам, не вам тратить мою копеечку! – отвечал Аркаша нищему почти по-волгински: он вдруг вспомнил, что забыл исполнить Павлов наказ.
Мы с Витюшей и парой стариканов идём на его конспиративную квартиру. Витюша возбуждён, стариканы еле поспевают за нами. Квартира недалеко, в Марьиной Роще. Закрыв за нами конспиративную дверь, Витюша прыгает на меня сзади.
– Хватайте его! – кричит он стариканам. – Это – провокатор!
Я не сопротивляюсь. Ведь он прав.
– Кто подослал тебя? Чуйбарс? Березковский? – начинает допрос Витюша.
– Сам Книлтон – мелковато берёшь, – сразу раскалываюсь я, будучи не в силах противостоять правоте его дела.
Витюша лучится от удовольствия: его лучшие подозрения оправдываются.
– Врёшь, собака, – мягко произносит Витюша.
– Вру. Собака, – снова раскалываюсь я.
– С виду – вроде наш, да вот внутри – с гнильцой. А гнильца – она народом чувствуется, народу она видна, от народа не спрячешься, – задумчиво говорит Витюша.
– Как есть весь прогнил, – подтверждаю я.
Витюше нравится моя откровенность.
– Так ты от Бандюганова? – внезапно доходит до Витюши эта простая как правда мысль.
– Почти от Бандюганова, – отвечаю я, выдохнув с явным облегчением.
– Бандюганов – ренегат, – перекосившись, сообщает Витюша, – только и умеет, что шпионов подсылать. Но ты вроде не дурак, сам можешь проинтуичить, чья возьмёт. Хочешь работать на народ, на будущее?
Как же такого не хотеть?
– Так я принят в Организацию? – с надеждой спрашиваю я.
– С испытательным сроком, – строго отвечает Витюша. – Выдержишь – сам напишу тебе рекомендацию.
– Тесно мне. На волю хочу! – сообщил Аркаша, возвратившись домой. – Отпусти меня, Ганга, на волю!
– Изволь, – улыбнулась Ганга, отворяя балконную дверь.
Аркаша погрозил ей на это пальцем.
– У меня гнусное настроение, – буркнул он. – Сначала этот Павлуша со своими сошками, потом я был зрелищем и чуть было не стал хлебом, поэтому я требую уже у тебя хлеба и зрелищ.
– Я готова, – улыбнулась Ганга, – и накормить тебя, и станцевать. Хочешь танец живота? Или танец попки?
– Накормить-то ты меня накорми, – отвечал Аркаша, – но зрелища мне сейчас нужны другие. Мне нужно что-нибудь помощнее, подраматичнее. Мне нужен бой гладиаторов-тяжеловесов.
– Я поняла, что ты задумал, – улыбнулась Ганга. – Постарайтесь хоть на этот раз разойтись без крови.
– Постараемся, – буркнул Аркаша, рассчитывая как раз на обратное, и набрал номер Павла Волгина.
Партия, предводительствуемая Витюшей, внешне мала. Собственно, те бабульки с дедками, которых я видел сегодня, эту партию и исчерпывают. Но Витюшина партия берёт не количеством, а качеством. «Я – мал, да вонюч», – говорит Витюша и испытующе смотрит на собеседника. Витюша ожидает, что собеседник с жаром опровергнет оба его утверждения и, как правило, дожидается.
– Да, нас немного, – говорит Витюша, пытаясь пронзить меня своим взглядом раненого кролика, – но мы берём не количеством. Наша сила – в исторической правоте нашего дела. И что бы вы там ни тщились доказать, – Витюша тычет в меня указательным пальцем, – после капитализма неизбежен социализм, так же как после семёрки неизбежно следует восьмёрка.
– Я так понимаю, – говорю я, – что вы оттачиваете на мне своё ораторское мастерство, и мне в дискуссии предстоит играть роль прихвостня олигархов или, по меньшей мере, ревизиониста. Я не согласен. Так дело не пойдёт.
– Помни об испытательном сроке, – остужает моё искреннее негодование Витюша. – Твоё будущее – в моих руках.
Он снова тычет в меня пальцем:
– Мы возьмём вокзал, и после этого ваша власть рухнет сама. Она упадёт, как яблоко, изъеденное червём.
Я молча проглатываю это оскорбление. Это – не моя власть. Такая власть мне не нужна – как и Витюше.
Павел Волгин носил хорошее, правильное имя и имел соответствующее ему хорошее, правильное лицо. С этим лицом он работал токарем на заводе имени Ильича. Работая токарем на заводе имени Ильича, он приносил пользу Родине путём производства для неё продукта.
Досуг его был не менее напряжён, чем рабочие часы или стояние на общественной вахте. Он изучал английский – язык зажравшихся буржуа и хорошо прикормленных рабочих. Язык этот приходилось учить для общения с единомышленниками всех стран, хотя с гораздо большим удовольствием он выучил бы шотландский, эскимосский, зулусский, ирокезский или язык другой угнетённой капиталом народности.
Он избегал женщин, он вступал с ними лишь в товарищеские отношения.
Зато на подоконнике, в зарослях кактусов и алоэ, были пристроены тисочки. С помощью этого приспособления Павел ежедневно тренировал свою волю. Он зажимал свой левый мизинец, излюбленный палец пророков, до такой степени, что палец синел, а потом чернел, но Павел только улыбался да скрипел зубами. Враги рабочего класса могут пытать его сколько угодно их чёрным душонкам – он встретит улыбкой любую боль.
Он отжимался от пола на костяшках пальцев, на тыльных сторонах кистей до появления перед глазами красных кругов. Он приседал, прикусив язык, пока не ощущал во рту солёный вкус крови.
И всё равно он думал: «Какая же я мелкая ничтожная личность по сравнению с титанами прошлого – Спартаком, Робеспьером, Разиным, Мюнцером, Туссен-Лувертюром!»
Он презирал суеверия всей силой просвещённого истматом и диаматом85 презрения: если сегодня он вставал с левой ноги, то завтра мог встать с правой или с обеих сразу.
«Жрите своих рябчиков, господа новоявленные нувориши, но знайте, что мировая социалистическая революция снова начнётся с России!» – повторял Павел, как заклинание. Это было одно из любимых его изречений, по силе, как он считал, уступающее только отдельным Глюковским строкам.
Я на время погружаюсь в себя, но моя дискуссия с Витюшей продолжается – мысленно.
«На свете нет ничего более гнусного, чем Наша Власть. Она как амёба накрыла всю нашу огромную прекрасную Родину. Это – простейшее, но прожорливое животное. Вспомните картинку из учебника биологии: когда амёбе хочется кушать, а кушать она готова всегда, она обволакивает жертву – и жертва, не сумевшая даже дёрнуться, оказывается засосанной и высосанной», – говорит Витюша – примерно так или чуть более выспренно.
Он продолжает:
«У Нашей амёбы три классических признака:
первый: вы зависите от неё, вы у неё на крючке;
второй: вам приходится с ней делиться, чтобы крючок не загнали поглубже;
третий: она не производит ничего полезного; напротив, перераспределение, потребление и уничтожение добавленной стоимости – вот то, что она освоила в совершенстве».
«Хорошо, – возражает какой-нибудь Невитюша. – Она – конечно, амёба, но она – Наша амёба!»
И тут Витюша сражает его наповал:
«Дык зачем она такая нужна, эта Наша амёба, которая только мешает жить, которая вынуждает жить так, чтоб было хорошо только ей? Которая облагает поборами и просто налогами – и их она считает своей законной добычей, она покупает себе на них бронированные Мерсы, ставит мигалки – и спихивает тебя же, Невитюшу, в сугроб. На твои деньги она строит себе дворцы раблезианских размеров за заборами с колючей проволокой, за которые тебя и на дух не пустят. На твои деньги она заказывает себе лакшери-туры с лакшери-сьютами, в которые тебе нету входа – презрительным движением плеча швейцар укажет тебе твоё место. На твои деньги она организует себе охрану, и эта охрана защищает её от тебя – как бы насильника и убийцы в седьмом колене».
Невитюша ещё что-то порывается возразить, но тут Витюша добивает его, он их всех добивает:
«Когда вы идёте на выборы – это она, амёба, ухмыляясь, поглядывает на вас с плакатов, как бы говоря: кого бы вы ни выбрали, вы всё равно выберете МЕНЯ, кого бы вы ни выбрали – Я всё равно буду вас грабить, унижать, подавлять!»
«Как вернуть тебе, амёба, то презрение, которым ты обливаешь нас, как перевыплеснуть его в твоё расплывшееся амёбное мурло?» – думаю теперь уже я, думает Витюша, думает Невитюша.
Входила мать – приносила кофе с бутербродом. При её появлении Павел вставал, тепло благодарил за работу – ибо настоящий коммунист личным примером должен привлекать в свои ряды всех наделённых душой, способных наблюдать и делать из увиденного выводы.
Он садился за книги: пора было подправить великое учение, оно не должно было стоять на месте – не старым же партийным бонзам, профукавшим свою малину, променявшим вечно живое и верное учение с властью в придачу на золотого тельца – в самом же деле, было его переписывать. Учение о диктатуре пролетариата, план восстания, стратегия и тактика вооружённой борьбы, отношения с обездоленными других стран – всё это Павел анализировал на современном материале и по заданию Партии, и по собственной инициативе, всё это Павел обобщал в единый, бомбе подобный труд.
Попутно он развил один из важнейших законов диалектики и творчески применил его на пользу делу развития человечества, за что был удостоен Партией звания Доктора партийных наук. Вкратце открытие Павла сводилось к следующему. Сокращение количества коммунистов совершенно очевидно привело к снижению уровня жизни в стране, и здесь мы имеем прямое следствие закона перехода количества в качество. Далее путём вычислений Павел показывал, что если увеличить количество коммунистов до хотя бы доперестроечного уровня, то другой уровень – жизни – должен резко и практически пропорционально подняться, а если довести количество коммунистов (хотя бы) до 100 процентов – то наступит полное изобилие и мир во всём мире – иначе говоря, коммунизм.
И при всём этом Павел был завзятым аркашистом, ибо в Аркаше он видел готового человека будущего, над селекцией которого безуспешно бились горе-педагоги ушедшей в небытие страны.
И когда Павел сделал попутное тригонометрическое открытие (сопоставляя количество коммунистов с уровнем благоденствия, он открыл гиперболическую параболу и параболическую гиперболу) и совсем уж попутное филологическое открытие: слово «товарищ», применённое к женщине, должно оканчиваться на мягкий знак – только Аркаша и сумел оценить всю важность и своевременность этих открытий.
Но Витюшу хрен ограбишь, хрен унизишь и хрен подавишь. Есть такие люди: они не гнутся и не ломаются.
Витюша – настоящий сермолист. Настоящее не бывает.
– За нами – самое правильное в мире учение, а за вами – что? – периодически вопрошает Витюша.
Я наблюдаю за ним влюблёнными глазами. Я мотаю на ус тактику общения с массами, я медленно, но всё же усваиваю его науку побеждать.
Вот он работает с подрастающим поколением: его бойцы приводят к нему внуков и правнуков для приёма в пионеры.
Чувствуется, Витюше не нравятся их причёски: у одного – слишком длинная («Скрипач, понимаешь»), у другого, наоборот, короткая – под бандита. В вопросах одежды Витюша проявляет себя бо́льшим демократом: короткие юбки пионерок его, как минимум, не пугают.
От его собственной причёски несёт мутным запахом никогда не мытых волос.
– А его Инесса вылизывает, зачем ему мыться, – ехидно замечает Октябрина – тётка с несносным характером, вообразившая себя Витюшиной оппозицией.
Сам Витюша говорит по этому поводу следующее:
– Настоящий сермолист хорош в любом виде. Самый грязный, самый оборванный сермолист мне дороже, чем любой холёный буржуй и уж, тем более, буржуйка.
И оппозицию Витюша пока терпит. Возможно, он ещё не выработал тактику борьбы с этим партийным недомоганием.
– Когда был Витя маленький, с курчавой головой, – пою я так, чтобы слышала Октябрина, но не слышала Инесса – тётка не менее противная, чем Октябрина, но гораздо более лояльная к руководству.
Только в больную оппозиционную голову Октябрины могла прийти мысль, что Витюша позволяет Инессе копаться в своей голове, в своём, как выражаются окружающие, Доме Советов.
А я завидую светлой товарищеской завистью и Инессе, и Октябрине: у них блестящие революционные имена. Я же – как есть, Иудушка. И такса у меня соответствующая – тридцать стобаксовых купюр.
Витюша систематически укоряет меня за моё неподобающее имя.
– Иудушка, – говорит он, покачивая немытой, но вылизанной головой, – ты и есть Иудушка. Ну что с тебя взять? И можно ли совершить мировую революцию с таким непролетарским именем?
Я терплю: мой испытательный срок не закончен.
Павел явился к Аркаше задумчивым, как алебастровый Ильич на центральной площади города Алпатьевска. Недавний инцидент, казалось бы, не оставил на нём заметного следа, и всё-таки вундеркинд углядел в Павле некое усложнение, некий даже лёгкий хаос: давешний вундеркиндов кусочек истины повлиял на него как гель вкупе с феном – на наибанальнейший правый пробор наибанальнейшего банковского клерка. Аркаша очень надеялся на то, что эта прибавка в качестве позволит Павлу дольше обычного продержаться на ринге.
– О чём задумался, детина? – осведомился Аркаша, выводя Павла из задумчивости. – О сошке? Или о плошке? Или прочитал что-нибудь из Глюкова? Вижу, вижу, не читал – давно, похоже, не читал. А хочешь, позовём отца Валентина? Отец Валентин, как обычно, достойно представит весь мир распутства и обжорства. Сядете и задумаетесь вместе.
– Хочу, – встрепенулся Павел. – Ты знаешь, ни с кем я так не мечтаю схватиться, как с отцом Валентином.
– Ганга, – попросил Аркаша, – пригласи Его Преподобие.
– Поняла, – с пониманием сказала Ганга. – Приглашаю и ухожу, ухожу, ухожу. Если что – я в именьице.
Они называли именьицем принадлежащую Аркаше обширную огороженную территорию в водоохранной зоне на берегу Чуинского водохранилища, на которой располагались несколько умеренной скромности строений.
– Не забудь нам только подкрепление отставить, – напомнил Аркаша.
«Ну и нафига вы это всё же затеяли? – мысленно спросил он себя. – Извольте пояснить!» «Да пошёл ты!» – мысленно ответил себе Аркаша. «Ну вы и хамло», – мысленно отреагировал на это Аркаша. «А в морду? – мысленно поинтересовался Аркаша. «Вот оно, твоё хвалёное воспитание!» – мысленно воскликнул слегка уязвлённый Аркаша, потерпев очевидное моральное поражение.
Зато теперь уж никто, даже сам великий Аркаша, не мешал ему устроить кэтч. Это развлечение он открыл для себя несколько месяцев назад, случайно сведя вместе священника с коммунистом, – и оно ещё не успело ему наскучить.
Моё первое боевое задание – разведка вокзала. Со мной на дело идёт старуха-калмычка: она играет роль японской туристки в шортах – несмотря на не летнюю уже погоду – и с фотоаппаратом. Я – переводчик при ней.
– Похожи, похожи, – зубоскалит Витюша на прощание, – вылитые братья Рю86. В случае провала – чтоб немедленно харакири! – сурово добавляет он и оглушительно смеётся.
Мы тоже улыбаемся: Витюша заряжает нас хорошим, правильным настроением, и с таким настроением мы приходим на Рижский вокзал.
Моя спутница безумно стесняется своего наряда, особенно шорт: хорошо, что краска стыда не особо заметна на её смуглом лице. Я говорю ей примерно по-японски, она отвечает мне, наверное, по-калмыцки.
– Улыбайтесь, – говорю я ей как бы по-японски, наводя фотокамеру, и она обнажает в улыбке все свои двадцать четыре металлических зуба.
На нас откровенно и нагло пялятся вокзальные обитатели.
«Посмотрю я на ваши рожи, когда мы возьмём вокзал», – злорадно думаю я.
– Вот этого, суку, самого наглорожего, мы первым к стенке поставим, – говорю я почти по-японски.
– Лучше вздёрнем, – отвечает мне по-своему моя калмычка.
Ко мне привязывается старуха из местных – ну прямо Витюшин кадр.
– Купите штаны, новые штаны за десять рублей, – пристаёт ко мне эта мадам.



