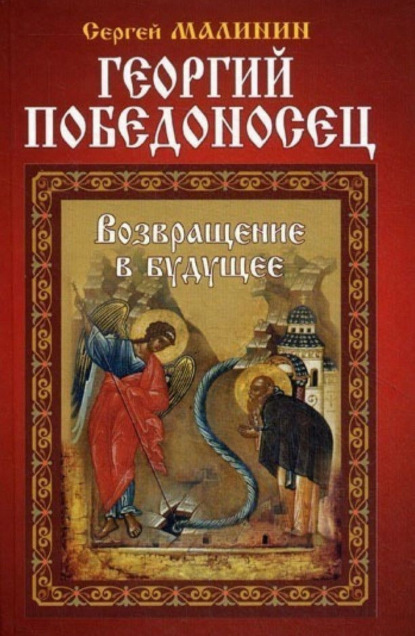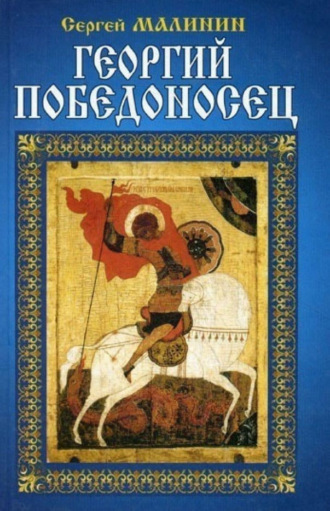
Полная версия
Георгий Победоносец
– Никита Андреич, радость-то какая! Батюшка ваш, Андрей Савельич, пожаловали!
А Никитка и сам уж всё понял. Подхватился, коленки от песка отряхнул и стремглав вкруг дома на передний двор, к крыльцу, кинулся.
А отец уж на крыльце стоит и о чём-то с деревенским старостой разговаривает. Обнял Никитку, волосы на голове ладонью растрепал, прижал на миг к пыльному кафтану. От кафтана дорогой пахнет, луговыми травами, а больше всего – конским потом. На боку сабля – Никитка, грешным делом, пока отец его обнимал, успел пальцем её потрогать.
Потом Андрей Савельевич сына от себя отстранил и поглядел на него как-то иначе – так, что Никитка вмиг смекнул: дело плохо. Что плохо, ещё не понял, но видно, что хорошего мало. Взгляд у отца не то чтобы сердитый, а какой-то печальный, словно доставил ему Никитка по недомыслию какое-то большое огорчение. Последний раз отец так смотрел, когда он года тому уж два, а может, и все три со старой ветлы, что над речкой росла, свалился и острым суком спину себе до живого мяса разодрал. Родителя понять можно: вроде и виноват отпрыск, и наказать его не мешало бы, а как ты его, бестолкового, накажешь, когда на нём и без того живого места нет – ну ровно у медведя в лапах побывал? Вот и чеши в бороде, думай, как ему втолковать, что шею себе свернуть немудрено – мудрено её после поправить…
– Ещё на полвершка, гляжу, подрос, – сказал Андрей Савельевич. – Когда ж ты, отрок, в ум-то войдёшь? А ну, пойдём в горницу, потолкуем.
И первый застучал сапогами по дубовым ступенькам. А Никитка следом поплёлся, уже понимая, что за разговор его ждёт, и в душе лишь об одном мечтая: чтоб дело только розгами обошлось. Розги – невелика беда; терпи, коль заработал, и вдругорядь не зарабатывай. До сих-то пор ему мнилось, что страшнее розог ничего на свете нет, а тут вдруг подумалось, что бывают, ох бывают на свете вещи, рядом с которыми розги – это так, семечки. Что это за вещи такие, Никитка себе пока не представлял, однако от усталого отцовского голоса и от невесёлого взгляда вдруг повеяло нехорошим холодком – будто где-то дверца приоткрылась, что из жаркого лета в зиму лютую ведёт, и потянуло по полу ледяным недобрым сквознячком.
Взойдя в горницу, Андрей Савельевич первым делом перекрестился на образа, а после снял и сунул в угол саблю. Уселся на крепкую дубовую скамью подле стола, локтем в столешницу упёрся. Малашка ему квасу поднесла – испил, крякнул, усы утёр и Малашке рукой махнул: ступай, девка, не мешай мужескому разговору.
– Ну, отрок, – говорит, – сказывай, чего у вас с долгопятовским сынком-то вышло? Глаз его подбитый – чьих рук дело?
– Моих, – говорит Никитка.
А что тут ещё скажешь? Нешто это дело – на Стёпку указывать? Однако же и отцу неправду говорить – не дело. Странно как-то оно вышло: как будто и вины на тебе особенной нет, а что ни скажи – кругом виноват…
– Твоих ли? – переспросил Андрей Савельевич, круто заломив бровь.
Сколь ни было ему в сей час обидно и горько, а интересно стало, что сын ответит, надолго ль его упорства хватит. Как дело было, он уж догадался, соседовых жалоб наслушавшись да по старой привычке без ошибки отделив правду от кривды. Он-то понимал, каково сейчас приходится Никитке, и всем сердцем его жалел, ибо виниться тому было не в чем, кроме отроческого неразумия да горячности. Да и горячность ли сие, когда дворянский недоросль обидчику спуску не даёт? За то не ругать – хвалить надобно, а как ты его похвалишь, когда из детского баловства цельное дело произросло? Долгопятый – он ведь не остановится, до самого царя дойдёт, благо далеко ходить ему, думному боярину, не надобно. Ударит челом, наплетёт с три короба, а государь-то крут! Что он боярам да князьям руки загребущие укоротил – то благо великое. Без этого Долгопятый уж давно бы земли, тем же государем жалованные, у Зиминых без спроса отнял – кликнул бы дружину, и дело с концом. В полдня бы управились, и челобитную писать, пером по пергаменту карябая, не надобно. Так что государь, с одной стороны, от боярина единственная защита, а с другой – боярина-то ему слышнее, чем служилого худородного дворянина Андрюшку Зимина. Ежели скажет: казнить – так уж переспрашивать да перечить никто не станет, казнят в два счёта, как последнего конокрада, лишь бы свои головы на плечах сносить…
– Моих, – ответил Никитка, продумав. – Моих рук дело, мой и ответ.
Андрей Савельевич вздохнул только. Ну вот что ты с ним будешь делать? Твёрдо держится отрок. Оно-то вроде и недурно, однако же времена настают такие, что гибкости требуют, а гибкости в сыночке не видать – в отца пошёл, стало быть. Эх, не сломали бы!..
«На всё воля Божья, – смиренно подумал Андрей Савельевич. – А только ежели его кому и ломать, так не мне. Пусть его растёт, силы набирается, крепости – авось не хрустнет, когда придёт его час».
– Будет тебе ответ, – пообещал он.
– Пускай бы Ванька Долгопятый сперва ответил, – слегка осмелев, изрёк предерзкий отрок. – Не я к нему драться полез – он ко мне. Вот и получил, чего искал. Ты мне сам давеча сказывал про святого равноапостольного князя Александра Невского. Кто к нам с мечом придёт…
– Святого Александра Невского ты пока оставь, – перебил Андрей Савельевич, коему ныне было не до споров. У него имелось к сыну срочное дело, говорить о котором прямо он не хотел. Приходилось искать окольных путей; сыскать их было немудрено, да вот только поймёт ли сын его намёки? – Что Долгопятого сын своему отцу наплёл, того я не ведаю и ведать не хочу. Но вот ежели бы, к примеру, из моих крестьян кто за меня вступился – на войне либо в каком ином лихом деле, – я б ему после, как себе, доверял. И постарался бы так всё устроить, чтоб спасителю моему через храбрость его никакого худа не было. Вон, возьми хоть дядьку Захара. Знаешь, откуда у него рубец сабельный на щеке? Кабы не он, снесла бы та сабля мою головушку, и быть бы тебе тогда круглым сиротой. Он мне столько раз жизнь спасал, что и не сосчитаешь. Да и я ему, если припомнить, тоже. Для дворянина в походе верный слуга – наипервейшее дело.
Он покашлял в кулак, отхлебнул ещё квасу и, расправив усы, продолжал свою речь, которую сын, судя по низко опущенной голове, очень даже хорошо понимал.
– К чему это я? – будто потеряв нить разговора при углублении в дела давно минувших дней, делано спохватился он. – Так, вспомнилось что-то… А сказать я тебе хотел, что сосед наш, Феофан Иоаннович, с сыном своим Иоанном сильно к нам в гости набивается. Соседу, сам понимаешь, не откажешь, так что будут они здесь самое позднее завтра с утра. А может, и сегодня же к вечеру пожалуют – это дело такое… гм…
Никитка вскинул голову, вглядываясь в его лицо: не шутит ли? Отец не шутил, это было видно по озабоченному, хмурому выражению лица. В гости… Ясно, что это за гости! Наябедничал Ванька, и, по всему видать, Андрей Савельевич имел с соседом своим, боярином Долгопятым, не шибко приятный разговор о той оказии, что случилась на берегу речки.
– Прощенья у Ваньки я просить не стану, – упрямо наклонив голову, сказал он. – Сам виноват. Никто его сюда не звал, и нечего было смердом обзываться.
– Неволить я тебя не стану, а кто кого кем обзывал – про то после потолкуем. Помиритесь, обнимете друг дружку, как меж православными заведено, и будет с вас. Повинишься перед ним, коль охота придёт, в прощёное воскресенье, а ныне не про то разговор. Приедут они, стало быть, пойдут по деревне… ну, или, может, поедут, чтоб ножки сахарные в пыли не марать. Может статься, какое знакомое лицо углядят. Для них-то, Долгопятых, все холопы одинаковы, особенно чужие, да вдруг которого припомнят?
В носу у Никитки подозрительно защипало, и он поспешно опустил голову, чтобы отец не увидел слёз, которыми вмиг наполнились его глаза. Ещё, чего доброго, подумает, что сын Долгопятых испугался! Плакать же ему хотелось не от страха или обиды, как это чаще всего случается в десять лет, а от чувства благодарности, такой горячей, какой он, пожалуй, не испытывал ещё ни разу в жизни. Отец говорил с ним, как с взрослым; более того, поступок Стёпки, который сам Никита считал непростительным проступком, едва ли не злодейством, отец, кажется, одобрял – недаром же повёл речь издалека, недаром говорил про верного слугу, без коего дворянину в походе пропасть бысть… Прямо он этого, конечно, сказать не мог: давайте, мол, ребятки, лупите боярских недорослей почём зря, даст Бог – до царевича со временем доберётесь, – однако дал понять, что злодейства никакого в Стёпкином заступничестве не увидел. Да и то сказать: кому он надобен, такой слуга, который за своего хозяина не заступился? Не говоря уже о друге…
– Ну, ступай играть, – сказал отец. – После ещё поговорим. Да вперёд осторожней будь. Ежели надо бить – бей, да только лучше уж в ухо либо по рёбрам. В глаз-то зачем же? Оно ведь не так больно, как обидно, а иные люди малую обиду до конца дней своих помнят. И чем дольше помнят, тем больше да больней им сия обида кажется…
Проводив долгим взглядом сына, который, несомненно, всё понял и помчался предупреждать своего приятеля Стёпку Лаптева, пачкуна запечного (больше некого), Андрей Савельевич кликнул старого дядьку Захара.
– Вот что, Захар, – сказал он, когда старик взошёл в горницу и стал на пороге, привычно согнув костлявую, но всё ещё широкую спину в поклоне. – Надобно мне уезжать. И, по всему видно, надолго. Идём на Волгу, астраханского хана воевать. В доме тебя за старшего оставляю. Ежели деньги потребуются или иной какой припас, к старосте ступай. Я его уж упредил, так что выручку с урожая он тебе отдавать станет, а ты её береги. Сильно не жмись, знаю я тебя, однако и Никитку сверх меры не балуй. Ты за него в ответе. Остальное, ежели что, пускай хоть огнём сгорит, а сына мне сбереги.
– Обижаете, батюшка Андрей Савельич, – привычно забормотал старик. – Нешто я не понимаю?
На языке у него так и вертелся вопрос: как же ты, дескать, барин, в походе без меня-то? Однако у Захара хватило ума понять, что, состарившись, в поле он станет хозяину скорее обузой, чем подмогой. Умом-то он это понимал, да на сердце всё едино было горько, как бывает, наверное, горько старому гончему псу, коего любимый хозяин первый раз в жизни не взял с собой на охоту по первому снегу.
То ли по лицу его это было очень заметно, и барин решил, пока не поздно, переменить разговор, то ли, что вернее, ещё не всё главное было сказано, а только Андрей Савельевич вдруг спросил каким-то иным, как будто даже сердитым голосом:
– Ответь-ка, Захар, ты почто моему сыну свои байки в уши поёшь?
– Какие такие байки? – изумился старик, уже и думать забывший о рассказанной более недели назад истории, коя, как это часто случается со стариками, излилась из него так же свободно и непроизвольно, как изливается вода из прохудившегося ведра.
– Ведомо ль тебе, надзирателю за воспитанием моего сына, что на прошлой неделе Никитка Долгопятых татями обозвал? Вы, сказывал, краденой иконе молитесь…
Старик ахнул, лишь теперь поняв, что ключница Матрёна говорила истинную правду: долгий язык при коротком уме довёл-таки до беды.
– Ай, беда-то какая! Ай, несчастье! Прости, кормилец, бес попутал! – вскричал он, падая хозяину в ноги.
– Бог простит, – сурово отрезал Зимин. – А ты ступай на конюшню да скажи Митрию, чтоб отсыпал тебе с пяток горячих за твоё недоумие. Вперёд будешь помнить, чем твои байки кончаются, до чего доводят… Ступай!
Не говоря больше ни слова, старик, согнув спину, попятился к дверям. До сего дня он ни разу не удостаивался порки на конюшне, однако и обижаться на барина было грешно: Захар знал, что крепко провинился, и готов был понести вдесятеро более суровое наказание, чем те несчастные пять плетей, на которые расщедрился незлобивый Андрей Савельевич.
– И скажи там, чтоб поесть принесли, – крикнул ему вдогонку Зимин. – Пристал я что-то с дороги, проголодался…
* * *Из поездки к соседу думный боярин Феофан Иоаннович Долгопятый возвращался мрачнее тучи. Развалясь на сиденье своей богато изукрашенной колымаги, занимая почти всю его ширину своей брюхатой тушей, облаченной в шелка, бархат и, несмотря на лето, душный бобровый мех, боярин сердито мял унизанной перстнями мясистой ладонью длинную густую бороду и хмурил косматые брови. Отпрыск его и наследник, названный в честь деда (а заодно, чего уж греха таить, и царя-батюшки) Иоанном, комком рыхлого мяса трясся на сиденье супротив родителя. Отроком Ванятка был крупным, упитанным, волос имел златой, волнистый, глаз голубой, а щёки румяные – словом, ежели подумать, лепота и умиление. Ни дать ни взять, королевич из сказки, хоть ты сей момент корону ему на чело клади.
Однако в лике «королевича», коему по детству полагалось выглядеть невинным и чистым, уже без труда читалось тупое упрямство, свойственное, по слухам, низкорослому коньку с предлинными ушами, что обитает в ханских землях и зовётся ишаком либо, иначе, ослом. Насчёт ишака Феофан Иоаннович доподлинно не знал, ибо бывать в низовьях Волги или, того хуже, в Крыму ему, слава богу, не доводилось, однако выражение Иванова лица было ему хорошо знакомо: выпяченная особым манером нижняя губа, сведённые к переносице редкие по малолетству брови и презлой взгляд исподлобья боярин не раз и не два видывал в зеркале, когда расчёсывал перед ним бороду. Сие означало, что фамильное упрямство, коим род Долгопятых славился не хуже ишака, отпрыск унаследовал в полной мере. Однако ж вот беда: помимо упрямства, стати да тяжёлого округлого подбородка, сын не взял от отца ничего – ни ума, ни твёрдости, ни таланта в плетении придворных хитростей, кои в те времена на Руси ещё не начали называть заморским словом «интриги». Уродился он, по всему видать, в мать – рыхл, неразумен паче дозволительного даже в его нежном возрасте, да к тому ещё и боязлив; качества эти, проявляясь совокупно с фамильным упрямством и им усугубляясь, порой заставляли Феофана Иоанновича горько сожалеть о том, что сын не помер во младенчестве. Сожалел он о том когда тайно, а когда и вслух, громко, на весь дом, укоряя себя за то, что не додумался вовремя удавить отпрыска в колыбели собственными руками, пока тот не вырос в этакого, прости Господи, бесталанного дурня.
Зла своему наследнику боярин, конечно же, не желал, ибо кто же, находясь в здравом рассудке, всерьёз возжелает затоптать собственное семя, продолжение своё в скорбной земной юдоли? Однако огорчений сын ему приносил много, и, от природы будучи гневливым да вспыльчивым, розог на вразумление неразумного отрока боярин Долгопятый не жалел. Младой боярин Иоанн Феофанович и ныне неловко ёрзал на лавке, пытаясь пристроиться как-нибудь так, чтоб дорожная тряска поменьше отдавала в поротый зад. Ёрзанье сие вкупе с громадным синяком, что занимал едва ли не всю левую щёку, почти полностью скрывая глаз, многократно усиливало раздражение Феофана Иоанновича против своего бестолкового отпрыска, ибо лишний раз напоминало о том, чего боярин и без того не мог забыть. Что же это, в самом деле, за напасть: он, думный боярин, вместо государевых дел должен думать о какой-то мальчишечьей потасовке, в коей к тому же повинен единственно его неразумный отпрыск!
Что бы ни говорил Феофан Иоаннович своему заносчивому не по чину соседу Андрюшке Зимину, все подробности той злосчастной баталии на речном берегу были ему доподлинно ведомы – насквозь, до последнего словечка. Ванька, явившись домой в мокром грязном платье и с синяком на пол-лица, пытался, конечно, юлить, валя всю вину за своё увечье на младшего Зимина, Никиту, однако в лице его Феофан Иоаннович читал, как в открытой книге, и, не преуспев добиться правды добром, взялся за розги. Сына пороть он никому не доверял – дворня, она ведь и пожалеть может, памятуя о том, что никто не вечен и что рано или поздно отрок, чей заголённый зад ты ныне охаживаешь вымоченным берёзовым прутом, станет твоим полновластным хозяином. Посему отпрыска своего боярин всегда порол самолично, не брезгуя сей чёрной работой для блага наследника богатой боярской вотчины; а кого Феофан Иоаннович порол, тот правды от него утаить не мог, будь хоть трижды упрям. Ваньке сие было ведомо, и ему же хуже, что, зная наперёд свою незавидную участь, всё ж таки пытался обмануть родителя. Это всё она же, смесь фамильного упрямства с неразумием да трусостью, себя оказывала; смесь сию надлежало из отрока выбить до последнего зёрнышка и изничтожить, и чем скорее, тем лучше. Ведь времена ныне пошли такие, что, ежели вырастет Ванька таким, каким обещает, не сносить ему головы. Государь, хоть и зовётся всякому русскому человеку отцом, к чадам своим нимало не милосердствует, и, ежели себя с ним хоть разочек этак повести, розгами одними дело не обойдётся – не миновать тогда дыбы да плахи, а то и на кол, чего доброго, усадит.
Посему сына Феофан Иоаннович порол нещадно, и про то, что у речки случилось, Ванька ему всю правду сказал, до последнего словечка. Вернее, не сказал, а провизжал, однако сие до дела не касаемо. Визжит – стало быть, пробирает отцовская наука до самого нутра, идёт впрок и со временем, даст Бог, себя окажет, выручит в тяжкую годину.
Правду-то боярин сведал, да только утешения ему в той правде не было. И ссору Ванька сам затеял, и в драку первым полез, и победить не сумел, хоть и превосходил супротивника числом вдвое. Только сраму натерпелся: и татем дал себя обозвать, и от холопского сына в глаз получил. Да как получил-то! Эвон синячище какой, ровно конь лягнул! Ежли б даже Ванька не сознался, что дозволил смерду рукоприкладством свой лик опоганить, всё едино догадаться о том легче лёгкого: так-то ударить Зимину-отроку не под силу, разве что головой, да и то с разбега.
Да что синяк! Известно, холопу на боярина руку подымать недозволительно, однако это смотря когда. Ежели оный боярин сам, без спросу, воровским обычаем в чужую вотчину впёрся да на законного хозяина, яко коршун, налетел, холопу за своего господина насмерть стоять самим Богом велено. И на Ваньке, поди, не написано, чей он сын, и закона такого ныне нету, чтоб в чужом имении как бог на душу положит бесчинствовать. Вот и выходит, что Ванька кругом виноват. Посему, сколь царю-батюшке в ноги ни падай, сколь челом ни бей, законным порядком тут ничего, кроме нового лиха, не добьёшься. Да и мыслимое ли дело царя по такой малости беспокоить? Того и гляди, осерчает, тогда синяком под глазом не отделаешься!
Да и не в этом дело. Ясно, что спускать зиминскому пащенку его дерзновенный поступок боярин не собирался. Спуску нельзя давать никогда и никому – это Феофан Иоаннович знал, как «Отче наш», и следовал сему правилу неукоснительно. Потому и у власти до сей поры держался, когда иные, и богаче его, и родовитее, давно уж на плахе головы сложили. Дашь человеку попущение в малости – он немедля большего взалкает. Оглянуться не успеешь, а тебя уж ни во что не ставят – пинают ногами кому не лень, как дворового пса, да ещё и насмехаются. Нет уж, такой доли боярин Долгопятый ни себе, ни сыну не чаял. Не для того предки с татарвой насмерть бились, соседей под себя подламывали, святую Русь на своих плечах подымали, чтоб теперь их семенем псы худородные помыкали! Потому сквитаться с Зимиными Феофан Иоаннович порешил твёрдо – не мытьём, так катаньем.
Хуже были слова, которыми это пёсье отродье, Никитка Зимин, Ваньку поносил. Тати-де вы, а не бояре, краденой иконе молитесь – каково? Про эти его слова Феофан Иоаннович Ваньку трижды переспросил – не выдумал ли, не перепутал ли чего, не напел ли ему в уши кто из собственной долгопятовской дворни?
Однако же нет. Ничего Ванька не напутал, и никто из челяди дворовой, что в боярском тереме день-деньской толклась, ежели чего и знал, вслух, да ещё и с молодым хозяином, говорить об этом не отважился. Сам-то он, слава богу, из слов зиминского щенка ничегошеньки не понял, кроме того, что они обидные, и по недоумию своему даже не заинтересовался: что это за краденая икона да почему это мы, Долгопятые, – тати?
Может, так-то оно и лучше. Может, аккурат на Ваньке порвётся цепочка, что намертво приковала старинный боярский род к тому давнему злодейству. И злодейство-то было, считай, плёвое; возьми любой, сколько их есть, именитый род да покопайся, ежели сумеешь, в фамильной истории – о-го-го! Ты там такого накопаешь, что после до конца дней своих спокойно спать не сможешь. Подумаешь, монашка плетью до смерти забили да икону присвоили! Забили-то по случайности, ненароком, а икона… Ну что ж делать, ежели так вышло? Не в дорожной же пыли её оставлять!
Так что злодейства никакого, можно сказать, и не случилось. А только было в той давней-предавней истории, а может и в самой иконе, что-то такое, отчего смотреть на неё спокойно и уж тем паче искренне на неё молиться Феофан Иоаннович, хоть убей, не мог. И из пращуров его, насколько ему было ведомо, тоже никто не мог. Время и привычка придали иконе незыблемый статус родовой реликвии, сугубо почитаемой семейной святыни, но проникнуться к этому размалёванному куску кипарисовой доски истинной любовью никто из Долгопятых не мог. А порой Феофану Иоанновичу начинало казаться, что и сама икона тоже его недолюбливает: то помстится, будто святой Георгий, пронзая копьём поганого змия, искоса поглядывает на боярина, да так, словно подумывает, не оставить ли ему того змия в покое да не взяться ли за Феофана Иоанновича, а то привидится вдруг на месте змиевой зубастой пасти некий бородатый лик, носящий на себе неизгладимые долгопятовские черты. Свят-свят-свят! Ей-богу, наваждение!
Или взять, к примеру, хоть саму эту историю с монашком. Ни сам Феофан Иоаннович, ни пращуры его помнить сию историю не хотели – хотели, наоборот, забыть. Да только она не забывалась, помнилась, словно за два века сами стены боярского терема насквозь ею пропитались. Вроде никто её нарочно не пересказывал, а знали все. Феофан Иоаннович хорошо помнил, как сам её узнал. Поначалу-то не знал, конечно, просто удивлялся: отчего это ему на образ святого Георгия Победоносца смотреть боязно, ровно и не святой это, а чёрт с рогами? Потом в голове неведомо откуда, будто сами по себе, возникли какие-то смутные обрывки, а уж потом, видя, как он мучается, отец, Иоанн Петрович, зазвал его к себе в горницу да и рассказал всё как было, без утайки.
Феофану Иоанновичу в ту пору было, как ныне его сыну, одиннадцать полных лет. Невзирая на опасный этот возраст, Ванятка никакого страха перед иконой не проявлял – наоборот, гордился семейной реликвией, истово на неё молился, бил земные поклоны и всё выпытывал у мамок да нянек новые подробности фамильного предания, согласно которому чудотворная икона, отвратив от Москвы татарские полчища, явилась его пращуру Гавриле Алексеевичу на пепелище спалённой неприятелем дотла Свято-Тихоновой пустыни. Феофан Иоаннович как мог хранил и оберегал неведение сына, чая, что Ванятка станет первым из их рода, кто так и не узнает подробностей той тёмной истории. А чего не знает он, того не узнают ни внуки его, ни правнуки, и пойдёт род бояр Долгопятых далее через века твёрдой поступью, осиянный неземным светом чудотворного образа.
И на тебе: «Тати вы, а не бояре! Краденой иконе молитесь…» Нешто можно такое стерпеть?
Он и не стал. Перво-наперво встретился в Москве с отцом предерзкого отрока Андреем Зиминым и пересказал ему, что на речке было, на свой лад – его-де сын, Никита, с одним из своих холопов через речку на его, боярина Долгопятого, земли перебежал и отпрыску его, Иоанну Феофанову сыну, сквернословное поношение и рукоприкладственное увечье учинил. Особо же пенял боярин на смерда, каковой по наущению своего молодого хозяина посмел поднять нечистую руку на отпрыска знатной фамилии, за что потребовал выдать сие холопское отродье головой ему, боярину Долгопятому, для суда и расправы, дабы другим неповадно было.
Зимин, тысяцкий, а иначе полковник, стременного стрелецкого полка, давно сидел у Феофана Иоанновича в горле острой костью. Не по чину был заносчив и лебезить перед родовитым да могущественным соседом не торопился, хоронясь от его гнева, яко мышь за печкой, за государевой службой. Так же и ныне: открыто перечить думному боярину, конечно, не дерзнул, однако и исполнять его желания сломя голову не бросился, сославшись всё на ту же государеву службу: дескать, ежели выйдет свободный часок, займёмся делом твоей боярской милости, а не выйдет – не обессудь. Отроки – они отроки и есть: как подрались, так и помирятся, а назавтра, гляди, сызнова подерутся. Нешто не все мальцы такие-то?
Пёс предерзкий!
Ну, холопий сын – то дело десятое, с ним всегда успеется. А вот сам тысяцкий – это да. С ним, непочтительным соседом, Феофану Иоанновичу давненько уже разделаться хотелось – и за бесстрашную да прямую повадку, коя так государю глянулась, и за спину негибкую, и за неуступчивость, с коей не пожелал, пёс смердящий, своим имением в пользу сильного соседа поступиться. Оно-то, конечно, боярин в том имении не шибко нуждался, своих деревень да холопов в достатке имея, но и обиду молчком проглотить не хотел: как это так – он, боярин Долгопятый, чего-то возжелал, а какой-то стрелецкий полковник ему желаемого не дал?