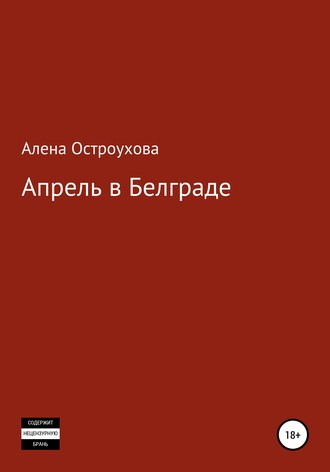
Полная версия
Апрель в Белграде
– Трахает?
– Что? – взвизгивает Алена и быстро оборачивается по сторонам, но все были заняты разговорами со своим друзьями или поглощением информации из светящихся смартфонов. – Даже мальчиков?
– Не-е-е, он натурал, – Настя сжимает губы в линию, чтобы не заржать.
– Уйди отсюда уже, пожалуйста, – Алена резко подносит два пальца к вискам и начинает их тереть. – И так на биологию опаздываешь.
– Удачи-и-и, – красиво пропевает Настя как специально и машет на прощанье ручкой.
Уже через секунду настроение меняется в обратку, и Алене хочется побежать за Настей и попросить держать ее за руку, пока она будет пытаться издавать красивые звуки, но девушка лишь обнимает себя и напоследок оборачивается. Медленно она подходит к заветным дверям, будто мимо прогуливалась, и останавливается. Она слышит за ними пианино. Слышит отрывки чьего-то голоса. Прислушивается, но тут же одергивает себя и вздыхает, осматривая старинную гимназию, будто бы впервые.
Родители, которые редко сюда приходят, всегда с открытыми ртами осматривают мраморные лестницы с чистыми красными коврами и высокие потолки. Ученики так уже давно не делают. Как тут не подумать про Хогвартс и его темные коридоры с говорящими картинами, но здесь, к сожалению, картины не говорили. Зато везде камеры, которые говорили четче и еще картинку показывали. Учительская с лестницей к библиотеке, в которой Алена никогда не была, ведь она учительская, алло: смертным вход воспрещен. Застекленные кубки, медали, грамоты. Директор школы всегда ездил по делам, а когда ученики видели его в коридорах, отходили к стенке. И Макгонагалл своя тоже имелась – училка по сербскому, которая вечно ходила с недовольным лицом и была правой рукой директора. И Травкин, как Снейп. Придет, нагавкает, и исчезнет, драматично махнув плащом.
Нет, Травкин просто любил драматично разворачиваться и красиво уходить.
За Аленой встает еще группа девочек и ей становится хуже. Так много людей, которые действительно хотят петь. И только одна, которая боится плохой оценки. Или лучше сказать, боится Травкина.
Дверь открывается, и из зала выходит высокий мальчик, из-за которого Алена сглатывает и вся сгибается. Ловит дверь, которая норовила вот-вот закрыться. Ее очередь блистать.
Внутри – еще десяток человек. Все-таки заходят они не по одному. Пиздец какой-то. Еще и при всех петь.
Он стоял рядом с одним парнем и вместе с ним пялился в ноутбук. Ах, этот Травкин вообще не меняется. Всегда в рубашках, джинсах, в красивых ботинках. Всегда взъерошенные темные волосы, будто бы на улице дул невообразимый ветер, но уложенные, будто рукой знаменитого стилиста. Наверно, все-таки, это его непослушные волосы, а не ветер. Он красивый, пусть это и банально. Пусть даже его красивая внешность – банальная. Темные глаза, загорелая кожа, выразительная челюсть, до которой хотелось дотронуться и провести пальцем по длине всей линии. Волосы тоже хотелось потрогать. Интересно. Никто никогда не говорил, что он красивый и Алена считала это странным, ведь про других молодых учителей трындели без стыда. А он… наверно, был слишком мразью, чтобы быть красивым.
Алена некоторое время стоит в ступоре на пороге и поправляет желтую кофту на всех местах, на которых только можно. Неугомонный взгляд бегает по нему.
Привычка изучить, прежде чем ты получишь неожиданный удар в спину.
Привычка изучать его, потому что сейчас – самое время.
Зал огромный. Слева – красные бархатные стулья, а справа – много свободного места и хоровой станок. Обычно здесь проводили концерты, презентации, прикатывали телевизор, или это место занимал оркестр. В общем, свободное место не было свободным местом, а сейчас – здесь именно пусто. Пианино всегда стояло посередине у стены, а рядом стол для разного барахла. На столе стоял тот ноутбук, за которым работал парень.
Вечно тут что-то происходит.
А другой парень сидел на хоровом станке и тихо настраивал гитару. Блатные хористы? А может, не надо думать о всякой фигне?
Алена делает достаточно уверенные, но маленькие шаги по направлению к ближайшему стулу и попутно стягивает рюкзак с плеч. Дмитрий Владимирович не замечает ее, потому что не поднимал головы.
– Нервничаешь? – дьявол спокойно и весело задает вопрос одной девочке, которая встала перед ним. Чтобы спеть, конечно
Она несколько раз кивает головой.
– А я нет, – цокает он и возносит пальцы над клавишами. – Поехали.
И она поет довольно высоко: и как ей только не холодно на вершине? Лариной всегда холодно, но она до вершин никогда не доходила. Не пела.
Звучит, вроде, круто. У Алены внутри течет лава, наматывает круги в желудке. Отвратительно.
– Следующий. Давайте-давайте, – командует он лениво, пока девочка записывала свое имя и фамилию на бумажке, которую он ей продвинул. Зал молчит. Не двигается. Алена тоже надеется, что слилась с сидением. – Ну, тогда расходимся по домам, раз никто не хочет.
Алена отрывает себя с кожей и мясом от стула. Оставляет рюкзак. Идет в одиночестве. Ну что за ебанный пиздец?
– Какие люди, – отстранено тянет он в своей пьяной манере, вернув уже не такой внимательный взгляд к бумажке с именами. Потом на ноты. – Ларина, – произносит он ее фамилию, словно прочитал в нотах. – Зачем пришла?
– Здравствуйте, – ее руки не находят себе места, и она помещает их в задние карманы. – Вы просили.
– Руки из карманов.
Она быстро их оттуда вынимает, как будто джинсы электрические.
Непривычно говорить с ним так, будто бы она давно его хористка и они разговаривают так с первого года. Вовсе нет. Травкин никогда не произносил ее фамилии просто так: только, когда раздавал проверенные тесты. Даже не шутил. Просто фамилия. А когда доходил до Камиллы или ее Ленки, тут он не мог нагло не улыбнуться. А ей? Он ей нагло улыбнется? Пока нет.
– Как каникулы? – выдыхает, помещая бумажку с нотами перед ним. Опять эта интонация в голосе, будто бы он говорил с соседкой про ее сына, который уехал учиться в Белград. Не удивительно. Алена тоже только два дня назад вспомнила. Взаимное равнодушие. Хоть что-то у них взаимно.
– Быстро, – несколько раз кивает Алена и рассматривает потолки, лишь бы не его.
– И не говори, – он жалобно цокает и возвращает свое обычное мудацкое выражение лица. – Поехали, повторяй за мной.
Он легко коснулся клавиш и заставил Ларину замереть. Нет, она слышала, как играла на пианино Настя и вообще, бывала маленькая на концертах, но она не знала, что он способен аккуратно дотрагиваться до клавиш и создавать какую-то красивую мелодию. Ему всегда лень делать что-то аккуратно. Он любил отвязаться и забыть, но…
…видимо, Алена никогда не была на его концертах и не знала, что к пианино он относится, как к родной матери. Это странно. Пипец, как странно.
Он не смотрел ни на ноты, ни на пианино, а смотрел на нее.
Когда Ларина вернулась из астрала и взглянула на учителя, то тот резко поднял брови, мол «я что тут, до вечера играть буду?». Она заморгала и вспомнила, что он спел обычную разогревку.
Обычное ла-ла-ла, и с каждым разом все выше и выше. Так она и начала.
– Громче, – сказал он сам довольно громко, не переставая играть.
У нее сердце опять упало вниз, но Алена стала ла-ла-лакать громче, устремив напористый взгляд куда-то вдаль, куда-то туда, пробивая стены и не видя перед собой ничего. Хоть бы он не взял ее в хор, и Алена сможет забыть про Травкина, и снова слышать о нем в чьих-то разговорах, и не обращать внимания, как обычно, как обычно…
Верните ее «как обычно» назад.
Он небрежно ударяет по клавишам, и раздается продолжительный писк. Губы прикусывает и сжимает; смотрит вперед, наверно, в ожидании, когда утихнет последнее эхо. В зале? Или в ее голове? Потому что Алена могла поклясться, что будет слышать этот отвратительный звук пианино в своих кошмарах.
– Миш, иди сюда, – взглядом Травкин подзывает парня за гитарой к себе. Слишком торопливо, слишком непонятно тихим голосом для Алены, так, что она больно сглатывает, ощущая слабость в руках и гудение в затылке. Миша оставляет гитару на хоровом станке и быстрым шагом осиливает пять метров за пять секунд, так как сам Травкин сказал слова быстро и задал темп. Сам Дмитрий Владимирович встает рядом и складывает руки на груди, одной рукой все же касаясь подбородка. – Давай «La Bella Rosa».
Тот садится на его место и кивает, как оловянный солдатик поднеся расслабленные пальцы к клавишам и оставив их в сантиметре.
– Что это? – не сдерживается Алена, будто он вот-вот убьет ее. Он должен дать ей хорошую причину не плакать.
– Ла-ла-ла, только La Bella Rosa, – он смотрит на парня, будто он тут важная фигура, а не какая-то девчонка. Будто они тут вместе тестируют новое поющее изобретение. – Пой.
М, чудненько, твою мать. Если хотели меня убить, могли бы так и сказать. Могли бы проехаться по мне уже своим ледяным комбайном. Где Вы его спрятали?
Пианино звучит так же даже без Травкина. Теперь он стоит, а Алена так же поет.
Он не модельного телосложения и никогда не был. У него не двухметровый рост, но на метр восемьдесят пять сойдет. Достаточно высокий для Алены: встав она рядом, она бы уткнулась ему в шею.
Его пальцы все еще скользили в раздумьях по его губам. Он осматривал ее всю, как на показе мод: смотрел на плечи, живот, лицо, пальцы, которые то и дело сгибались в кулаки и разгибались. Ее ладони холодные, и они вспотели, если ему интересно. А ему интересно. У него прям на лбу написано: «мне интересно, пой». Но это был холодный и отчужденный интерес. Это был их немой разговор и даже не взглядами, ведь они не встретились ими. Как хорошо, что не встретились. Это был его разговор с собой, ведь он не смотрел ей в глаза. Это была, возможно, его собственная тишина с собой, потому что по его лицу невозможно понять, кто он такой и что он от тебя хочет.
У Алены сейчас лоб от напряжения отвалится. Даже не от пения. Как ни странно, петь ей было не тяжело: ей было тяжело стоять перед ним и ощущать… его молчаливое, ничем не объяснимое любопытство.
Ей сложно держать его взгляд на себе. Она не привыкла.
Он не учил такому.
Пожалуйста, заткнитесь.
Бросив короткий, пустой взгляд на него и, слава Богу, он смотрел на ее плечи, Алена смогла подумать только: «Бля, какой красивый» и вернуть взгляд к стенам. Может, он раздевал ее у себя голове? Нет. Это твоя идиотская фантазия. Может, осанка и поза были важны в пении? Скорее всего. Но почему-то она чувствовала себя голой.
И ей было очень, очень жарко.
Ей нужно было подышать воздухом. В этом зале его не было. И, пожалуйста, перестань смотреть на меня.
– Все, – внезапно отрезает он музыку, ждет, когда парень оторвется от пианино, и возвращается к своим бумажкам. – Спасибо.
А сейчас, его интерес пропадает, и он не удивляется. Словно такие разочарования постоянно происходят, а он привык разочаровываться. Зато она удивляется, застывая с открытым ртом. Ей же нечем его разочаровывать. Она ему не какая-то потенциальная певица, окей? Ты даже не посмотришь на меня? А тебе, Ален, хочется? Ее вдруг задел за живое ледяной ветер, который дует рядом с ним. Он для нее тоже – никто, но почему-то ей плохо еще с середины мая.
Когда Ларина набрасывает рюкзак на плечи и почти бегом исчезает в коридоре, она понимает. Понимает и Камиллу, и Лену, и Настю… вспоминает все «мудила», «лицемерная свинья», «он любит только красивых и популярных», «застенчивых он давит, как тараканов». Она слушала и не понимала, откладывая эти знания на дальние полки. Слова о нем ничего не значат, пока он сам не подойдет и не выльет на голову ведро с холодной водой и еще посмотрит так мол «а чего ты хотела?».
Действительно, чего она хотела? У нее сердце разрывало грудную клетку.
По крайней мере, музыки в четвертом году нет.
Больше никакого Травкина.
Он сумасшедший
– Я пела, как идиот, ладно?
Сербия – это вечно зеленое место, где ты не успеваешь насладиться закатом. Солнце быстро опускается за горизонт; можно найти хорошую точку обзора, сесть и наблюдать, как долька яичницы уменьшается с каждой секундой. Сербия – именно место. Понятное дело, что это страна на юге Балкан без выхода на моря, с кучей идиотских слов и имен, но… когда Алена приехала сюда, ей показалось это «новым местом» и кажется до сих пор.
– А он… он еще выпендривался, знаешь?
За окном автобуса мелькают домики, а за ними – мелькает остаток солнца. Небо вокруг него огненное, а дальше – сероватое. Взгляд устало держится в одной точке, ловя секунды заката. Опять. Она привыкла к Сербии и забыла, каково это находится в «другом месте».
– Типа, пой громче и вообще, спой мне Уитни Хьюстон.
Это точно ее место и многих других, кто переехал. Здесь всегда приятная тишина, в любое время и в любом месте. Ночью, вечером, после закатов здесь тихо и можно гулять до рассвета, до первых машин на светофорах и открывающихся магазинов.
Тихо и спокойно.
– Уитни Хьюстон? – развернулась удивленно Настя час назад, с долькой ананаса в зубах.
– Ну, не Уитни Хьюстон, – отмахнулась Алена, обнимая одну коленку, которую держала на стуле. Вздохнула, закрыв глаза. – Мне было плохо, пока я там стояла.
– Он умеет вводить в депрессию, – Настя согласилась, продолжив стоять с ножом, набитым ртом и нарезать ананас.
– И ла белла роса эта дурацкая. Что это вообще?
Алена замолкает, снова тяжело вздохнув и опустив лоб на коленку. Прослушивание – слишком стрессовое событие. Выходящее из ряда вон скучной и непримечательной жизни Лариной, которая сделала ноль – как ей казалось – ноль попыток выбесить Травкина или что-то в этом роде. Он обычно не любил таких.
Раздражителей…
– Фто ты скавала? – ананасы успешно выплевываются в тарелку. Как оказалось, Настя уже сидела за столом напротив подруги. Голова Алены приподнимается. – La Bella Rosa? – ее произношение намного лучше, но Алене лучше от этого не становится. – Он заставил тебя спеть La Bella Rosa?
Действительно ли он заставил ее спеть? Алена уже ни в чем не уверена.
Лучше бы вся учеба в гимназии ей просто приснилась, а завтра она проснется десятилетним ребенком, который уезжает в «другое место» и ни о чем не подозревает.
– Да? – звучит тоненько и неуверенно.
Настя с вылупленными глазами прожевывает остатки фрукта, будто бы вкус ананаса ее поразил.
– Это что-то значит? – Алене все же интересно, но голос остается тихим.
Настя ест и думает одновременно.
– La Bella Rosa считается у него высшим уровнем, – мысли приводятся в порядок, и Настя Симонова продолжает спокойно кушать. – Он заставляет петь это самых сильных. Ну, по его мнению. Хотя эта просто несложная распевка.
Глаза Лариной вновь медленно закрываются, но голова больше не падает безжизненно на коленку. Ее ноздри заметно расширяются от учащенного дыхания. Она вскакивает на ноги, захватив с собой кусочек ананаса.
– Ничего не понимаю, – что-то в этом всем ее дико бесило, но она не могла понять – что.
Загвоздка. Интрига. Его собственная интрига, и только его, которую он написал себе и теперь ходит довольный, зная, что вводит в заблуждение всех, с кем взаимодействует. Он постоянно что-то недосказывает, но при этом выглядит так натурально, будто не делает это нарочно. Как он мог разуверить в чем-то и сразу на следующий день заставить поверить в ту самую вещь? Травкин даже дышал лицемерно и выучено. Даже его импровизации выглядели профессиональными, будто бы он бесстрашный и непробиваемый, а если и кто-то собирается давить – это он. Он всех раздавит.
У Алены кипят мозги. Он занял слишком много места в ее мозгах. Но она ест ананас.
Настя застывает с открытым ртом.
– Ну, напой. La Bella Rosa, – торопливо она жестикулировала рукой. Вдруг она и правда стала гениальным вокалистом.
На самом деле, ей не хотелось, и она усмехнулась, вспомнив Дмитрия Владимировича. То, как он попросил ее спеть; точнее, он не просил ее петь – он попросил другого парня сыграть. Насколько он равнодушен. Некрасивый писк пианино все еще гудит у нее в ушах, но Алена задумалась. Настя не враг, ладно. Она хочет помочь.
Прожевала ананас. Встряхнув головой, Ларина сделала самое ленивое лицо, какое только могла. Такое лицо она делала в детстве, когда мама заставляла убираться в квартире. Ларина поет очень быстро и, как говорится, на отъебись. Настя кивает в такт головой, но не успевает: подруга спешит и фальшивит.
На, получи и распишись. И отстань.
– Нормально, – выдавливает из себя.
– Он сумасшедший, – выдыхает Алена, расценив ответ Насти, как «свиньи красивее кричат».
– Ты сейчас специально налажала, Ален. Узнаешь, короче, – повышает голос Настя, используя его как самозащиту на психозы Алены, но продолжая оперативненько кушать. – Он вывесит список в понедельник и посмотришь, – глаза Лариной снова опускаются. И так понятно, что не возьмет.
– Ладно, – Алена бросает взгляд на настенные часы. – Я к стоматологу.
– Иди.
Так Алена и уехала в закат к стоматологу на автобусе. Дороги, по которым ездил пятый автобус были гладкими, поэтому прислониться головой к окну было можно. Главное не думать, насколько оно грязное. Стоматолог не был срочным. Зубы не болели и не отваливались, но почему бы не посверлить лишний кариес. Ей не хотелось, чтобы маленькая проблема превращалась в большую. И она надеется, что речь идет только о зубах.
Алена ждет, когда автобус затормозит и откроются двери. В мыслях вертелась сцена из «Сверхъестественного», в которой стоматолог просверлил пациента до смерти. Страхи перед ним оправданы, ведь ни один врач не долбит железякой твои кости, а ты лежишь и слушаешь. А если уж совсем край – орешь.
А потом ты едешь такой домой, как ни в чем не бывало. Дикость какая-то.
Хотя розовый интерьерчик у них милый. И стулья в цветочках вокруг журнального столика с огромной тарелкой конфет. Кто бы не оформлял клинику, у него хорошее чувство юмора.
– Можете подняться к доктору, – сказала пухленькая брюнетка, чей бейджик Алена не успела рассмотреть, хотя ей было интересно. Алена коротко улыбнулась и поднялась вверх по лестнице, не чувствуя этого внушительного отвратительного запаха горелой кости. Лет в пять, когда ее мама водила к стоматологу в России, еще на пороге можно было ощутить запах ужаса и бежать.
Собственно, вот и доктор и ее две ассистентки. Алене пришлось застыть, так и не сняв до конца зеленую куртку, потому что ее никто не заметил.
Две ассистентки стояли в халатах, а главная – только в белой майке и штанах сидела у батареи и пила кофе.
Я тут типа буду дальше стоять, или мне просто сесть и приказать вам сверлить зубы или…
– Здравствуйте, – стоматолог замечает ее, поднеся чашку к губам, и быстро откладывает ее на подоконник. Алену отмораживает, и она наконец-то снимает куртку, вешая ее на попавшийся на глаза настенный крючок. – Елена.
Молодая, черные волосы. Алена бы дала двадцать девять. Ну, тридцать максимум. Замужем? Алена пытается поймать взглядом ее кольцо, пока она готовит инструменты. Нет, кольца нет.
В Сербию понаехало слишком много русских за последних пять лет, но сербы по прежнему играли важную роль в своей стране, как например – лечили зубы. Она сербка. Говорить тоже приходится на сербском и ровно до тех пор, пока не узнают имя Лариной, не поймут, что она русская.
– Алена, – она научилась произносить свое имя четко, чтобы не переспрашивали.
– Русская?
– Приехали семь лет назад, – заученная фраза.
– Вообще нет акцента, – она искренне удивляется, обращаясь к двум девушкам за спиной, которые неловко стояли, как миньоны. – Садись.
У них еще и кресла розовые. Хотят притупить настороженность и страх пациентов. Не выйдет, но да ладно. Это все равно мило.
Эта Елена любила болтать и смеяться над глупостями. Сначала Алене показалось, что она промахнется с ее разными сверлилками, но она не промахивалась и еще успевала болтать про какую-то фигню… которую Алена, естественно, слушала. Во-первых, ее мания изучения, и во-вторых – скучно. Она слышала тихий разговор про какую-то мазь, которую одна дала другой. Про какие-то новые препараты в области стоматологии. Про мужа Елены, который постоянно на работе, а дома – спит. Странно, кольца у нее нет. Может, сняла из-за работы? Про девчонку с универа, которая прикрыла недавно свою клинику.
Аленины мысли заполнял всякий хлам, и она наслаждалась, сидя в куче ненужных вещей и разбирая их, пристально рассматривая каждую, поднимая к солнцу и крутя в руках.
– Та-а-а-к, – довольно тянет Елена, убирая изо рта девушки ватку и эластичную лампочку и давая знать, что можно открывать глаза. Алена проморгалась и открыла глаза. – Постучи зубками, – все столпились около нее, как голуби над хлебушком.
Алена стучит зубами, будто бы никогда в жизни этого не делала.
– Пломба не мешает?
– Нет, нормально.
– Ну, все, – мокрые перчатки летят в мусорное ведро. Интересно, ее кофе уже остыл? – Придешь ко мне еще три раза и все вылечим, – они вместе поднимаются со своих мест, кто куда: Алена сразу за курткой, пытаясь попрощаться улыбкой, а Елена – к столику, записать время.
Спина и жопа отваливаются столько сидеть.
– Держи. В понедельник, в три часа, – рука протягивает ей визитку или типа их личной картонки, на которой они пишут время следующего визита.
– Хорошо, – взгляд сразу любопытно падает на миниатюрную картонную книжечку голубого цвета. На, мать его, главной обложке – название клиники Denatorium, а внизу – имя главного стоматолога написано самым стандартным шрифтом, типа ариала или калибри. Еще секунду назад лицо Алены было живым. И мышцы на лице двигалась. У нее вот-вот заболит шея от нежелания ее поднимать, но наплевать.
Она увидела имя – Елена Травкина.
Рот приоткрывается.
Да ладно…
Я не хочу петь
Какое-то тухлое утречко.
Она сидела с закрытыми глазами между Ксюхой, Миленой и Марией. Милена и Мария как обычно без остановки трындели, и Алена уже поняла, что встревать в это – беполезно. В такие моменты они никого не видят, только друг друга. Учитель русского называет их сиамскими близнецами.
И почему Алена думала, что может влезть в их дуэт? Стать им интересной?
Сейчас она не думает так. Ксюха думает, раз пытается комментировать их темы и не получать в ответ ничего. Ксюха, они вдвоем, им насрать. Успокойся, и попытайся поспать. Как я.
Она сидела между ними: сначала наблюдала, слушала; морщилась, когда они говорили про прививки, потом многозначительно смотрела вперед, когда они говорили про последнюю серию Ривердейла; теперь сидит, как сырое мясо и ждет конца урока. Сегодня истории нет. Замена. Поэтому все болтают, как будто ходили с заклеенным ртом весь год.
Про жену Травкина она не сказала никому, зная, что эта информация разлетится, как горячие пирожки. Конечно, кем она работает – никого не интересует, но ее рассказы про мужа… Алену бы сожрали, если бы кто-то узнал, что она владеет такими богатствами. Сплетни про учителей – самые дорогие сплетни.
Даже Насте она почему-то не сказала. Обе на выходных учили и забыли позвонить друг другу, или хотя бы встретиться. Алена носила информацию в себе; как тяжелый камень таскала голыми руками и хотела его где-то оставить. Но негде. Это ее. И зачем ей только это надо? Теперь она не может дождаться следующего похода к стоматологу.
Травкина не любит, а жену – пожалуйста. Какого хера?
От Травкина хотелось бежать… в сторону его жены. Алена совсем потеряла ниточку в размышлениях, которая называлась «логика».
И как она только сделала без ошибки тест по философии… чей синоним был слово «логика»? На самом деле, она до сих пор не понимает, почему учитель называет себя учителем логики, а в расписании написано «Фил». Якобы философия, на самом деле – логическое мышление и вообще, все философы задают лишь логические вопросы.
Алена слишком глубоко задумалась о философии на уроке философии, пока делала тест.
– Кто будет списывать, тот осел, – укоризненно произнес философ с поднятым указательным пальцем. Он сам не выдержал и улыбнулся, заставив других рассмеяться. – Я серьезно. Только попробуйте.
Он чем-то похож на Травкина. Такие же переключения между «давайте поржем» и «заткнитесь, мне надо преподавать». Правда, другой смех. Философ любил ржать искренне, как конь, да еще над какой-нибудь глупостью. Травкин обнажал зубы только улыбкой. И то, редко. Его редко что забавляло и вызывало здоровый интерес. Но они не похожи главным: учитель философии – хороший человек. Он играл на гитаре в кафешках, гулял с детьми и женой по вечерам, в шутку отбирал у младшей сладкую вату.

