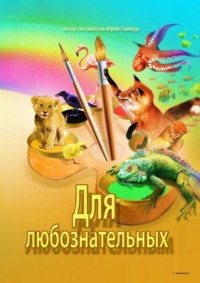Полная версия
Дорогами совдепии
– Героям, сала! Зычно, вдруг, заорал Атлант.
– Ганьба!! – захрюкала рыльцами и застучала копытом аудитория.
Пот окатил Костю. Он проснулся. Хрюканье нарастало, как на стадионе. Он вскочил, метнул свое тело к светящемуся окошку, как слепая бабочка, натыкаясь на силуэты.
Дальний фонарь освещал тусклые тротуары. Город поглотила глубокая глупая ночь. Сознание возвращалось к нему, как к утопленнику. Он пошарил по столу. Наткнулся на безногую рюмочку. Она, словно нализавшийся оловянный солдатик, покатилась, засияв лунной блёской. А из угла замолотил копытами хряк. Костя одернул его. Но он разразился непристойным хрюканьем, оскорбляя грязным языком Наф-Нафа. Рукой, нащупав какой-то предмет на полу, он метнул в него. Затем туда полетел всякий прочий бряцающий инвентарь.
Оросив напоследок некультурного грубияна, Костя успокоился. И, растянувшись на своем лежбище, продолжил сон.
В колыбели Петра Михайловича мирно дремало свинство. Похрюкивало, почавкивало, похрапывало, переворачиваясь с боку на бок. Для матери-природы всякая тварь её чадо. Детишки её сладко посапывали. Долгую эволюционную дорогу отмахал старший братишка в галстуке. Вновь потянуло его в родные пенаты, как блудного сына. Примчался он по зову сердца на зов предков. И почмокивал сочные сны, как молочный поросенок.
Младший, болезный, прохрюкал эволюционный курс. Рылом не вышел.
Хмельная ночь уравняла их. Мутное утро вползало сытым боком белого сала. Долькой хрена таяла луна. И на хрена эта эволюция?
Костя Вижульман еще нежился на куче старых матрасов. Кабанчик заискивающе выглядывал из убежища.
А день уже хлюпал первым солнечным лучом по лужам, струил легкой испариной.
Но вот, Костя подпрыгнул как физкультурник, разминая гимнастическим упражнением затекшую мысль. Проворный глаз отыскал туфлю. По-ковбойски вскочив в неё, окинул глазом манеж. Другой не было. Корова языком слизала. Шлёпая носком по грязному полу, он начал поиск, опираясь на дедуктивный метод и интуицию сыщика, вынюхивая пропажу из аромата запахов.
Архимеда осенило, когда он окунался в купель. Ньютона припечатало увесистое яблоко. На Костю Вижульмана с потолка оборвалось чучело крокодила-каймана, укусив за ухо.
– Эврика!
Он уже стоял у деревянной перегородки. Кабанчик, завидя обидчика, забился в угол, как монашка при виде злодея-насильника. Правая туфля, почти новая, шоколадно переливающаяся, в чёрных шелковистых шнурках, теперь понуро скукоженая, выглядывала останками своего лакированного бока из жирной жижи. Словно корабль, потерпевший крушение у берега каннибалов-людоедов. Ночная бомбардировка имела свои плачевные минусы.
Палочкой Костя брезгливо буксировал её к гавани. Обувка напоминала доисторическое животное. Вылупившееся и окаменевшее, не успев сформироваться в какой-либо подвид. Душа выплеснула крик неандертальца. Вторая туфля как лакированная торпеда полетела в неприятельское рыло. Устроив кабанчику Цусиму, Костя поник. Безнадёжным взором он скользил по стеклу. На большой земле кипела и булькала жизнь. За спиною ворочал копытом хряк. Языческим богом разевал беззубую пасть крокодил кайман. Мрачно зависали под потолком различные тряпицы.
Наконец, в замочной скважине повернулся ключ. Сердце узника ринулось навстречу.
А в дверном проёме появилась добрая фигура уборщицы Клавдии Несторовны. Она встретила Костю с дымящимся ведром помоев и радостным известием:
– Христос воскрес!
Костя обмяк… Но, завмаговским жестом баба Клава извлекла из скромного гардероба шефа пару добротных демисезонных валенок.
Костя окинул их печальным взором горемыки кота, который получил эти снегоступы, вместо сапог-скороходов от любимого маркиза Карабаса.
Валенки были забыты не только богом, но и самим завхозом. Должно быть, в далёком патриархальном прошлом похаживал в них дедушка Петра Михайловича. В период зимних кампаний служили они ему ратную службу. Вещь была трепетно проштопана дырявой рукой-умелицей. Тупое безразличие овладело Костей. Нахлобучив их, он сел на стул. А за окошком в воздушных босоножках принцессы кружила весна. Брызнула солнечная искорка на её серебряной застёжке. И поскользила хрустальной льдинкой по асфальту.
У входа в студенческие закрома общежития прохаживалось котообразное существо по кличке Суффикс. Он, как кот Баюн, намурлыкивал сны. Общежитие сонно потягивалось, скрипя разбуженной пружиной.
Вахтeр, бабушка Емельяновна, с лицом доброй сказочницы, собирала пустую стеклотару, складывая в лукошко. Ни свет ни заря, она спешила в эти «грибные» места. Они позвякивали колокольчиками, выпуская лёгкую песенку проказников троллей, веселых лесных пьянчужек.
А сюда уже нёсся по знакомой дорожке лихой баянист Гуго. Усыпив бдительность кота Суффикса рыбьим мослом, он проскользнул налимом в дверной проём, мелькнув мехами музыкального инструмента. Всю ночь он бродил одиноко с гармонью наперевес под окнами частного сектора, не давая спать девушкам и соседям. Соседи мрачно посылали его, а девушки не желали знакомиться с нахалом гармонистом. Лишь за полночь маме-старушке удалось загнать спать музицирующего вундеркинда.
Утром он понёс свою славу в студенческую аудиторию. Привычно оттолкнув ногой дверь, Соловьём-Разбойником ворвался в комнату. «Пиво-пиво-пиво!» – пожарной сиреной пронзительно заорали меха гармони. Баянист Гуго был сложён, как гиппопотам, а красная шайба, с пылу с жару, нагоняла обезьяний ужас на незнакомый женский пол. Но душа Гуго была невинна. Поклонница Бахуса и Бетховена. Рубаха в петухах браво топорщилась на животе. Линзы очков зорко блистали бриллиантом. С кроватей начали свешиваться ноги.
Худые и волчьи – Никиты. Олимпийские икры – Савы-Шифоньера. Врубелевские голени— Андрея Рублeва.
Добрые слоновьи ноги гармониста, притопывая, манили их не в страну знания, а в пенистую пивную пучину раздолья.
Не хватало шустрых и хитрых копыт Вижульмана и белых святых ног Патриарха.
Вчерашний день выбил из седла ещё одного всадника. Грешное, грузное тело Патриарха было оставлено в пути. В свою скромную обитель его принял приятель, Слава Апостолов, проживавший по дороге к общежитию, когда стрелки часов клинками сомкнулись на полночи. Душа Фанерия Патриарха тенью отца Гамлета парила во снах, выбравшись из склепа забвения.
А день уже сочно настаивался. Суффикс творил разбой, терзая рыбью голову, набираясь учёности. Зелёным оком озирая свои владения. А на улицах, налево и направо расцветали чудеса в прозрачных абрикосовых платьях юности. Лопаясь бутонами и выбрасывая две элегантных стройных ножки.
Вот идёт она. Быстрая, небрежная, незнакомая. Эй, юность, ты же так болтлива. Мы с тобой одной крови!
В трамвае, как в желудке, качаются пассажиры. Убаюкивает бдительность вагончик. Выходит на охоту контролёр. Жадная совесть трамвайно-троллейбусного депо. Продирается напористо, но крадётся. Дичь мелкая, но тоже расторопная. Он охотится и на него охотятся.
– За проезд платить будем? – строго и неуверенно. Как учитель. Закидывает удочку трамвайным недорослям.
Где этот притаившийся пассажир, который непременно выдаст себя? Ведь надо обилечиваться? В голосе потепление. Возьми, похлопай по плечу рядом стоящего, бабусю усади у окошка, ребёночку сделай «козу». Эдакий я вовсе и не контролёр. А такой же горемыка, но при исполнении. Слуга царю, отец солдатам. Поговори. Просто о жизни. Пожури вышестоящих, не ездящих трамваем. Вынюхивай чутким ухом зазевавшегося. Не успел…
Всё. Приехали.
На улице глаза побежали по витринам. Поскакали по полкам. Потрогали глазом, пощупали, глазом надкусили. А продавщица взглядом сама тебя переваривает. Должно быть, все продавцы из под прилавка лимоны кушают – тренируют улыбку. Приятного аппетита..
И мы идём дальше, любезность перевариваем. Ну вот, пришли. Серый двухэтажный дом стыдливо присел у дороги, распахнув гостеприимную подворотню, и пустил лужу, поливая асфальт канализационными нечистотами. Здесь находилась скромная обитель Славы Апостолова.
Слава Апостолов был человеком благородного воспитания и недюжинной лени. Отрочество пьющего диссидента было бунтарским и сумбурным. Хотя, ни законопослушный дедушка его, и никто из родственников не пересекался с мятежным лейтенантом Шмидтом. Слава же был в сношениях с лейтенантом-инспектором. И он знал, что «свобода встречает радостно у входа», но не спешил к её парадному подъезду, оставаясь в тени фойе, где ленивая душа искала монашеского успокоения. Проживал он как в ссылке, в каморке подвала, преобразовав её наскоро в односпальную комнатку, дабы быть ближе к народу и испытать его лишения. А однокомнатную квартиру наверху сдавал каким-то квартирантам. В очередной раз сочетался гражданским браком с советскими гражданками Нелей и Лерой. И нынче соблюдал великий пост медового месяца.
Огонь, вода и медные трубы – атрибуты героя. Новый герой люмпен-интеллигент. Он экономен и расточителен. Огненной водой, по-братски, угощает соплеменника-аборигена. Бескрылая мысль, выбравшись из гнезда кукушки, кукует ему орлиный размах. Жизнь должна вскармливать его голодное чрево. А медные трубы должны играть ему славу. Но они не играют. И он опускается, хлопая тщеславием, блистая нищим оперением.
Потом собирается стая. Грезится им жаркая страна изобилия. Вечное лето праздности. Хлебные заграничные края. Гонит их инстинкт к наслаждению. Мечутся они. Ищет жар-птица сказку.
Подымет обыватель голову – Труболёты летят… И вздохнёт.
А из всех утюгов трубили западные СМИ, как вольготно живётся за кордоном. И как нежится там в сытной жизни обыватель-тунеядо… Там, только и делай – что ничего не делай! Красота!
Всё окажется с точностью, да наоборот… Но это будет потом…
Радушный хозяин встретил гостей в матёрых красных трусах семьянина. От него разило цыганской вольностью и похмельем. Фанерий Патриарх, как король Лир, был в окружении женщин. Жрицы любви глотали его глазами. Патриарх зачитывал им нравственный кодекс Евы. Слава, уважавший закон шариата, хлопнул их по объёмным женским местам. И они, набросив паранджу невинности, исчезли на «кухне», то есть за клеёнчатой перегородкой данного же помещения с умывальником, служившим одновременно и унитазом для малой нужды. Исполняя на ходу, бедрами, танец невольниц, заводя гармониста. Толстые пальцы Гуго нервно затеребили интимный аккорд…
Комсомолки Неля и Лера жили коммуной. Медоносной пчелой они тянули в семейную ячейку нектарно-бражную массу. Упитанный трутень Слава поглощал меда, проповедуя сладкую истину «Не мёдом едины».
А душа Гуго оводом уже кружила по комнате. Патриарх смиренно запустил руку под полу чёрного пиджака и извлек, жестом факира, хрустящее пожертвование, достоинством в восемь бутылок портвейна. Гонец был послан и прибыл. Засияла пурпурная жидкость, пополняя гемоглобином и алкоголем кровь. Заструила, жидкая пища для печени. Натянулись и зазвенели жилы души. Тряхнул цыганской головой Слава Апостолов. Сорвались девки цыганочку каблуком мять. А Гуго, как упитанный конь, копытом об пол молотит. Меха гармони раздирает.
Скачет Неля козой, длинной ножкой взбрыкивает. Грудь прыгает, словно в ладоши хлопает.
Чуют жадные ноздри гармониста женскую плоть. А Лера взглядом лукавым его ласкает. Томно волосы на плечи сбросила. Ресницы распушила. Серебряные серёжки бряцают мелочью. Прыгает змеиным глазом зелёный камешек в них.
Сава женский хлопок выбивает по попкам. Никита Донбасс матросским «яблочком» ботинки по полу катает. Они большие, как два крейсера, бороздят половую доску пьяной волной. Штормит стихия.
Захмелевший Патриарх золотую рыбку по аквариуму сачком выуживает. Невод авоськой забрасывает. Весело.
Выпрыгнула гармонь из пальцев. Гуго взял стакан, дух перевести. Андрей присел на падишахские перины. Слава, в позе шейха, изрекал библейские истины:
– У нас быть богатым неприлично. Не в деньгах счастье. Христос пришёл в мир, как бог бедных. Что может дать один неимущий другому – райскую мечту.
– Учитесь мечтать, братья! И возлюбите ближнего. Неля и Лера сияли, обнимая своего желанного наставника.
Тут и Патриарх притчу зачитал:
– Приходит в лес добрая Бурёнушка с молочным выменем. Глаза мягкие, бок лаской лоснится. Созывает она колокольчиком серого брата. Сбежались волки, на хвосты сели, языки вывалили. Слушают.
– С миром к вам пришла я и того вам желаю – говорит она.
– Возлюбим же ближнего!
– Как здорово травку пощипывать, – продолжает.
– Былинка к былинке, сочная, калорийная, во рту тает.
Тут и заяц вьюном вьётся у копыта.
– Дело говорит травоядная. Я пробовал, вкуснотища, за уши не оттянешь. Дружить давайте, серые братья!
Зацепил белым клыком волчара травушку-муравушку. Пожевал. Желудок вывернуло, слезой прошибло. Корову за шкуру:
– Ты что, ведьма рогатая?!
– Рубай её, братва!
Одни рожки да ножки остались. Хорошая была корова. Зайцев любила.
– А что, насчёт «Не желай жены ближнего?» – поинтересовался пунцовый гармонист. Лиловый глаз его, как злобный «верлиока», пробирался за пазуху хорошенькой Неле. Она закусывала наливным яблочком. Талия её извивалась змейкой, попа искушала. Гуго сунул глаза под очки.
– Вот я, не желаю ничьих жён, – изрек Слава.
– Это они меня желают.
– А любовь к ближнему? – поинтересовался Патриарх.
– В мудрых цивилизациях древнего мира женщина – воин. Амазонка. Охотница и добытчица. Смотри, как они охотятся за гармонистом. Я тоже имею свой прайд. Разве они не светские львицы?
– Советские львицы! – подтвердили разом девки.
Слава стряхнул пепел с подушки, прошёлся глазами по слушающей аудитории.
– Это закон джунглей.
– Закон цивилизованных джунглей, заметьте.
– Только любовь к равным – классическая мораль цивилизации.
– А была такая цивилизация? – поинтересовался Андрей.
– Конечно, Атлантида. Воины Света.
– Воины и войска – остолопы силы. Сошлись на поле брани. Порубали башку друг другу. Не для того голова дана человеку.
– Воевать будет не нужно, когда победишь всех!
– Может сначала победить себя?
– И тогда наступит коммунизм?! – торжествовал Никита.
В этой подвальной комнате материализовалась мечта Никиты. Правда, на время, пока изобилие льёт рекой.
Перед взором Никиты всколыхнуло волной мираж. Над пенистыми водами Азовского моря «Летучим голландцем» зависал пузатый броненосец «Очаков». Браво чеканили революционный шаг матросы. Пролетарский гюйз ветер полощет:
– Куда, братцы?
– К коммунизму шуруем!
Никита бескозырку в ладонь и за ними.
– Так и мне ж туда!
На палубу скок. Пароход трубой натужится, гудок даёт. Братва карты в планшеты заправляет. Штурман с боцманом в фарватер дуют. Никите заданье дали, водкой приборы протирать.
– Даёшь эру милосердия, и всеобщего равенства!
И к братьям по разуму, повышать пролетарскую сознательность.. Большому кораблю, как говорится, большая торпеда.
Опять на земле он. Столовым ножом, как кортиком, орудует. Помогает Лере картошку чистить. Закручивается локоном чёрная кожура картофеля, шлёпаясь на пол. А из кастрюли прусачок рыжим перископом шевелит. Готовится брать его на абордаж. Манит хлебосольный русский стол заморского таракана.
Прошагал как-то суворовский солдат бравым маршем за кордоны Пруссии. Неприятеля в берлогу загнал. Бивуак разбил, дымом закусывает. А прусачок к нему в ранец – прыг. Ливонским мундиром похваляется. Он его, как фаворита, в Санкт-Петербург и доставил. И разбежались они по кастрюлям: «Матка, млеко, яйки!» Русь всех прокормит.
Очередные ёмкости появились на столе.
– Откупоривай пузыри, Гуго-сапиенс – скомандовал Слава.
В дверь робко постучали. На пороге возник печальный Костя Вижульман, мягко переминаясь с ноги на ногу. Валенки, как два облезлых сибирских кота, жалко тёрлись об потёртый половичок.
– С Новым Годом. – изумлённо произнёс хозяин. А мех баяниста выпустил ноту душевного страдания.
Великий русский классик граф Толстой любил бродить босиком. В крылатых сандалиях путешествовал Меркурий. В сагах, странствующие нибелунги истаптывали железные башмаки. В русской былине фигурируют чудо-сапоги. Но о валенках ни гу-гу.
– Ладно, не прикидывайся валенком, рассказывай – зычным басом протрубил Патриарх. А меха баяна зарыдали.
Костя скупо изложил похмельную одиссею. Его выслушали и налили, успокаивая.
– Выше голову. Вождь мирового пролетариата в валенке весь тираж «Искры» конспиративно в Россию перетаскал.
– Валенки снять можно, а то жарко?
– Валяй.
Русская душа вообще – потёмки. Продирается она сквозь дебри дремучие. За одним голенищем – мудрость житейская. Из второго портянка выглядывает. Лоснятся начищенные англицкие ботфорты. Золотой шпорой сияют. А она придёт и заткнёт их за пояс. Не лыком шиты.
Учёный немец через монокль вылупится, разглядывая скифскую душу, обутую в валенки. А она веками не понятна чужеземным мудрецам. Вот так.
Сумерки мягкими кошачьими лапами подкрадывались к двери. Щедро рассыпались прощальными любезностями. На кумачовой щеке Гуго Неля оставила буракового цвета поцелуй. Талисман от леди Макбет. Глаза ревнивца Славы ласково пощекотали рёбра гармониста.
Луна, словно помочилась на асфальт. Засияли неоном ночные джунгли города. Костя крался, как росомаха, озирая звериным оком прохожих. Глубокая ночь кружила над бетонной архитектурой. По лабиринтам общежития гуляли ариадновы сны. И изредка их нарушал белый унитаз, внезапным, душераздирающим рёвом… Да одинокая гармонь усердно бродила с одного лестничного марша на другой, канюча любовную страсть.
На чёрной крыше изучал интимную жизнь летучих мышей кот Суффикс.
Спросил как-то, Андрей молодую, но очень расторопную в науках преподавательницу античной литературы Елену Петровну Карпенко-Карую об Атлантиде и прочее об амазонках. Ничего не сказала наперстница Афродиты и пошла от бедра, как по волнам. А вечером сама заявилась в его студенческую келью монашкой, с умной книгой и вермутом.
Книга была о тайнах океанов и морей Земли, где выгуливали свои доисторические туши плезиозавры с ихтиозаврами и размножались, как креветки щупальцеобразные аммониты. Эволюция планеты и мира началась с океана в капле, где жировали доисторические амёбы. Оттуда берёт начало и мифология племён, проживающих у берегов.
Скользкая грудь Елены Петровны билась, как у русалки, застигнутой во время шторма, и пучина вермута поглотила её, в конце концов…
Забегаловка – отдушина для пролетария. Наведывается сюда инкогнито и интеллигент. Студент же, как рыба в воде. И море ему по колено. Ноги сами тянут сюда тело. Умных речей послушать. Фольклору хлебнуть. Душевной лирики нахлестаться.
Захрустела последняя трёшка в руке Кости Вижульмана. Но он достоинства не роняет, боярином-бендюжником, к стойке подходит. Трояк мелочью в кармане перебирает, по-купечески. Палец медяк ощупывает. Баночкой трёхлитровой, как кадилом, помахивает.
– Спeртый дух, вельмо.
– Что изволишь, благодетель?
– На все, гуляем!
А Андрюха глазом взвешивает.
– И сколько сюда можно набульбенить?
Толкается очередь, на ногу наступает. Волнуются люди, через плечо заглядывают, скоро-ли? А оно, холодное, льётся… Наполняется кухоль, струится-переливается. Сытостью пузырит, булькает. Бокал лучи отражает, янтарём играет. Сдобной пеной вспучивает. Журчащая сюита, органная месса. Брависсимо! Вот оно, твоё. Залейся. Фух!.. Блаженство…
Жирным телом выползает креветка, всколыхнув алое хитоновое лежбище на тарелке…
Повстречал здесь Андрей знакомого. Студента биологического факультета Вадима Бражника.
Стоял он, пиво цедил. Бокал аккуратно таял, надувая живот и мозги плотоядной мыслью. Крылатую фамилию свою он получил от непутёвой бабочки «бражника», которая глушила нектар без меры. К нему же она не имела никакого отношения. Он был серьёзным студентом и многое знал. Ходил сюда жидкого хлеба откушать, духовно пообщаться.
– Скажи, Вадим, человек откуда произошёл?
– Ясно откуда. Создан богом из обезьяны.
– А русалок бог создавал?
– Пока нет. Русалки – фантазии озабоченных мореходов… – похрустывая рыбьим хвостом промычал он.
– И зачем нам русалки? Это нарушение экологического баланса. Вот если воблы не станет, тогда хана. – Он указал кружкой на пивную очередь – Спроси, это нужно им? Хотя, разве что со временем, может быть…
А времени было хоть залейся.
По улицам на велосипеде катилось лето, мелькая спицами. Ветер задирал сарафан, проказничал и хватал за пушистый хвост важных котов.
«Весь мир – театр, а люди в нём – актёры» – должно быть, так изрёк великий Шекспир.
Примеряются маски.
«Вы довольно-таки упрямы, но ваша воля иногда вам отказывает, и это сильно переживается. Вам хотелось бы быть более уверенным в себе, в некоторые моменты вы просто презираете себя за неуверенность – ведь, в сущности, понимаете, что вы не хуже других. Бываете раздражительны, иногда не в силах сдержаться, особенно с близкими людьми, и потом жалеете о своих вспышках.
Иногда, вам кажется, что вас хитро и деспотично используют, вас охватывает бессильное негодование. Много сил уходит на обыденщину, на нудную текучку, уйма задатков остаётся нереализованными…
Вы уже давно видите, сколько у людей лжи, сколько утомительных, никому не нужных фарсов, мышиной возни, непроходимой тупости – всё это рядом, и сами вы во всём этом участвуете, и вам противно, а всё же где-то, почти неосознанно, остаётся вера в настоящее. Вы самолюбивы и обидчивы, но по большей части умеете это скрывать. Ну, довольно, узнали себя?» Все мы в буднях суеты таковы…
Суета, суета, суета… Обнимает в истоме за плечи.
Я гляжу, как садятся года, словно в воск опускаются свечи.
Мы остались. Перон и вокзал. Стук колeс…
И опять до рассвета.
И катилась большая слеза по щеке, как большая монета.
И звенела и падала вниз. Разменяли года, как медяшки.
Суета… Оглянись, оглянись.
Жизнь, я счастлив, родившись в рубашке.
Я могу догорать и гореть. И душой согревать на морозе.
Я могу, очень жаль, умереть, в суете захлебнувшись,
Как в прозе…
Фанерий Патриарх организовал театр абсурда «Под мухой». В самом названии, по словам Патриарха, был заложен глубокий философский смысл. Он растолковывал его бестолковым.
А разве жизнь не абсурд? Суетимся, торопимся, созидаем, итог – деревянный пьедестал. Примеряет саркофаг душа. Будто в самый раз. И захлопываются двери гробницы. Для чего живёт человек? А для чего живeт муха? Чтобы – быть. Или – не быть. Вот в чём вопрос.
Фанерий, он же Валерий, был старше всех по возрасту не только среди студенческой аудитории, но и некоторого преподавательского состава, за что и получил почётное прозвище Патриарх. Это был третий вуз, где он успешно постигал премудрости науки. Красные дипломы двух других лежали дома в секретере. От ума или это было возрастное, но сквозь его жидкую причёску уже просвечивалась лысина. В таком виде участвовать в художественной самодеятельности было не допустимо. Какой Ромео с плёшью?
Прошёлся Патриарх по театральным гримёркам города, одолжить шекспировскую шевелюру. Вернулся расстроенный, но зато, много любопытного поведал на эту тему.
– Оказывается, парик впервые появился ещё в древности.
Первобытный мужик стремился походить на самца дикого зверя, и украшал свою дремучую башку его шерстяной шкурой или перьями птиц.
Популярностью пользовались искусственные волосы у элитных шлюх и богемы Римской империи. Клёвыми считались чёрные индусские парики. А которые при бабле, тусовались в рыжих. Бабы «блондинки» вообще пользовались успехом и у патрициев и у плебеев.
Но именно древние римляне допёрли не только украшать свою репу париком, но и камуфлировать им лысину.
Потом эту лавочку прикрыла церковь.
Плешивый Людовик XIV первым начал публично щеголять в искусственных патлах. Тут же и придворные жополизы напялили парики, чтоб подражать лысому.
Абсурд, не подчиняется эпохе, всё может быть…
Так вот, в Россию эту хренотень припёр Петр I. Сам, иногда, напяливал куцый паричок за 5 рублей, что надыбал по дешёвке Меньшиков. Это, чтоб мордой в грязь не ударить перед иноземцами.
А с XVII века додумались даже ввести их в регулярную армию! Сейчас их надевают в суде чиновники и клоуны в цирке. Это, что касается мужиков. Ну, а дамам закон не писан, как говорится.
Интересно, наступит время, когда бараны будут брить бошки? И это будет супер причесон…
Пройдёт совсем немного времени и в 90-е, стрижка «лысой» братвы будет весьма популярна…
Короче, к искусственному скальпу Патриарх поостыл.
Сам ректор писал тезисы к будущему сценарию, втолковывая главные мизансцены Патриарху. Фабула должна быть революционно-патриотическая и пролетарско-демократическая. В причинно-следственной, хронологической последовательности, с коммунистическим сюжетом, на основе социалистического реализма в развитии изображаемых явлений. От сознательных декабристов царской России – до убеждённых комсомольцев нынешнего свободного государства Советских социалистических республик. Но в духе нынешнего прогрессивного времени, разумеется.