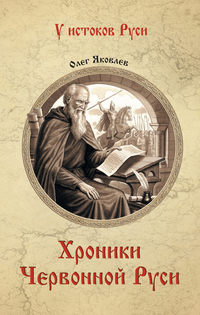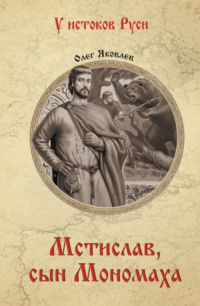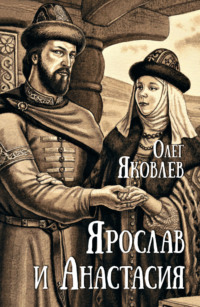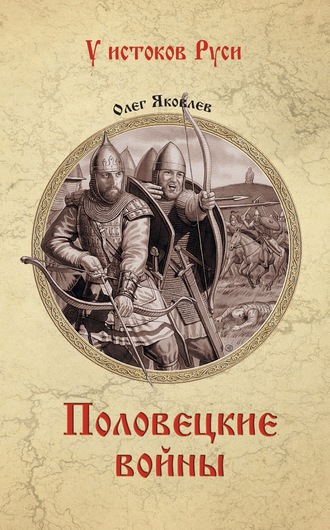
Полная версия
Половецкие войны
– Огню предали, – раздумчиво повторил Коломан. – Ты вырос без материнской ласки, плохо знаешь, что это такое – потерять мать. Девять лет. А мне уже за тридцать. О, Кирие элейсон![121] Грехи тяжкие!
Они пришпорили коней, лихим намётом взмыли на заснеженный крутой холм, с которого открывался вид на просторные дали. На восходе за буково-грабовым редколесьем поблёскивал искристый озёрный лёд.
– Веленце, – указал, круто осаживая скакуна, Коломан. – Тут рядом монастырь братьев-бенедиктинцев[122]. Надо заехать, увидеться с аббатом.
Он оглянулся, единственным видевшим глазом ожёг Тальца с ног до головы и недобро усмехнулся:
– Думаешь, королевскому сыну легче, чем простолюдину? Нет, это не так. Да ещё мне, горбатому, кривому, хромому? Я пережил то, что не переживал ни один из вас. Вы никогда не поймёте, что такое насмешки, издевательства, обиды, на которые не можешь ответить. О, Кирие элейсон! Ты думаешь, почему я ненавижу Альму? Из-за власти? Но тогда я ненавидел бы любого, обладающего тем, что не имею сам. Например, строил бы козни и заговоры против своего дяди, короля Ласло. Но к королю Ласло я не питаю вражды, не завидую ему. Нет, Дмитр, наша с Альмой неприязнь – это иное. Я – урод, я обделён Богом, я – словно бы часть чего-то дьявольски тёмного, порожденье сатаны. Ты знаешь, как горько, когда мною пугают детей! Когда мать-мадьярка[123] говорит непослушному чаду: «Если ты не перестанешь вести себя столь нечестиво, придёт горбатый кривой Коломан, уродец и злодей, и заберёт тебя». Как будто Коломан – какая-нибудь там Баба-яга из русской сказки. Или Вашорру-баба[124] мадьяр. Или вупар[125] поволжских булгар. И смолкает проказник, тихо льёт слёзы да дрожит от страха.
Бывает больно, а иногда смешно, когда от тебя шарахаются, когда лица людей напоминают рожи безумных, когда женщины заходятся в диком крике от ужаса. А Альма – он красавец, его любят жёнки. В одном Эстергоме[126] у него четыре любовницы, все жёны баронов. И мужья знают, но терпят. До поры до времени. Как же: герцог, может, будет королём. Как не потерпеть. Тьфу! А впрочем, что их осуждать? Я вот тоже терплю Фелицию[127]. Тебе повезло, Дмитр, ты не познал тягостность уз Гименея. А я наследник короны, и мне жена тоже положена из королевского рода, пусть хоть смеётся над моим уродством и рожает детей от блудливых попов… Мать хоть и любила меня, говорила, что я умный, но Альма был её надеждой, её любимчиком, её гордостью. Меня ещё покойный отец, король Геза[128], прочил в епископы, хотел отдать в руки жирных и противных боровов-монахов. Но не успел, умер.
Ох, мать, мать! Ты не понимала одного: прекрасный твой Альма был равнодушен к твоей ласке. Видел, Дмитр, ведь он не скорбел там, у гроба, всё смотрел на меня и повторял мои движения, мои слова, мою молитву. У него один ветер в голове, он и латиницу-то едва осилил. Скачки, жёнки, утехи ратные – ничего больше.
…Я тебе скажу как другу… Хотя, зачем я всё это говорю? Но ладно. Если стану королём, постараюсь избавиться от Альмы. Но, чтобы взойти на трон, нужна поддержка влиятельных людей. Поэтому мы и едем в гости к зловредным монахам. Ты их тоже недолюбливаешь, Дмитр. Да, ты ведь греческой веры, православный. Могу с тобой спорить часами, до хрипоты, что наша латинская вера лучше, что Христа мы любим сильнее, но какой в этом толк?
Коломан на мгновение замолчал. Они остановили коней посреди леса, изо рта шёл пар, лёгкий туман стлался в низине над мёрзлой землёй.
– Спешиваемся. – Королевич спрыгнул с коня наземь. – Ты видишь. Я научился обходиться без слуги. И хромаю меньше в последнее время. Достань из сумы жбан с ракией[129]. Белая болгарская ракия. Жжёт, как огнём. Что бы сказала мать? «Ты стал пить, Коломан. Ты как твой дед, Изяслав, излиха слаб к вину». Хотя это далеко не так. Да, Дмитр, ты знал моего деда?
– Нет, крулевич. Не видал ни единого разу. Да ить и умер он задолго до моего рождения.
– Ну, тогда дядьку Всеволода. Уж его-то точно. Помянем заодно и его, усопшего! – Коломан взял из рук Тальца жбан и сделал два больших глотка.
– Горло дерёт! – Он поморщился, передёрнул плечами и вытер усы. – Крепкая ракия. На, испробуй. Ну, как тебе?
– Добро. Насквозь всего пробирает.
– Кого ещё помянем? Красавицу Кунигунду-Ирину[130], графиню мейсенскую, вдову Ярополка Волынского! Ну нет, она жива-здорова, во второй раз вышла замуж, за графа Куно Нортхеймского! Недолго горевала! Юдиту[131], жену Германа Польского, вот кого помянем. Умерла почти сразу после родов! А так была красива!
Коломан выпил ещё и ещё и стал, шатаясь, ходить вокруг лошадей, тряся жбаном, как кадилом.
– Крулевич, что с тобою? – Талец не на шутку перепугался.
– Со мной? – Коломан говорил заплетающимся языком, глаз его затуманился, он едва держался на ногах. – Ничего. Хмель в голову. Анастасия сказала… Королева Анастасия[132]… Не завидуй чужой красоте… Она умная… Она мне как мать… Тоже русская княжна… Ярославна… Смотри… Королева Юдита умерла… А Фелиция жива… Красота увядает… Безобразие цепляется за жизнь… Как колючка… О, Кирие элейсон! Что я тут наплёл?! Дмитр, поедем… Вези меня к бенедиктинцам… Там заночуем… А утром в путь… Нас будут искать… Пошли монаха сказать… В Альба-Регию…
Талец погрузил подвыпившего королевича на коня. Сухой и маленький Коломан оказался лёгок, Талец поднял его на руки без труда, но, боясь ненароком причинить боль этому уродливому отпрыску угорских и русских княжеских кровей, долго и осторожно всаживал его в седло.
«Да, хороши будем мы пред братьями-бенедиктинцами, Нет, не мочно[133] туда езжать. Поворотим обратно, в Альба-Регию». – Талец сел на коня позади Коломана, а второго скакуна привязал за повод к первому.
– Вот тако и поскачем, с поводным конём. Ну, наперёд! Пошли, коняки!
Медленно и важно, гулко барабаня копытами по твёрдой холодной земле, скакуны вышагивали по вечернему зимнему лесу.
Безлюдно и тихо было в лесу, ни человечьего голоса не раздавалось, ни крика птицы, ни волчьего воя, ни рёва шатуна-медведя.
Морозный воздух, свежий, прозрачный, чистый, казался подобным хрупкому ломкому стеклу: дунешь, и растрескается, зазвенит, разлетится на тысячи мелких осколков.
В темнеющем высоком небе зажглась первая звезда. Талец, вскинув вверх голову, задумался. По гладкому челу его пробежали бороздки морщин.
Вот уже более десятка лет он тут, в земле угров. Он стал воеводой, стяжал ратную славу не в одной битве, ходил с королём Ласло покорять Славонию, воевал с половцами, видел Нитру[134], Аграм[135], Белград. В Эстергоме выстроил он большой каменный дом со слюдяными окнами и теремными стрельчатыми башенками, его ценят и уважают, тайно ненавидят и боятся, ему завидуют.
Но всё же Угрия – чужая для Тальца земля, сердце его навсегда осталось там, на Руси, по ночам ему снится Чернигов, снится родная деревня, снятся дубравы, леса и перелески. И не с кем ему поделиться сокровенным. Друг Авраамка весь ушёл в работу над переводами греческих и славянских хроник, много раз он выполнял посольские поручения короля Ласло, тоже стал заметным человеком при дворе, но постепенно как-то отдалился от него, Тальца. Да иного, наверное, и не могло быть – у каждого из них своя стезя. Одному – вести рать на бой, рубиться с врагами, другому – долгие часы просиживать над книгами и скрипеть гусиным пером.
С годами всё острей чувствовал Талец гнетущий холод одиночества – дом его, полный челяди, казался пустым и невзрачным. Никто не встречал его из походов, никому, кроме Авраамки, не был он по-настоящему близок и дорог.
Тоска сжимала Тальцу сердце, становился он угрюмым, задумчивым, надолго погружался в себя. Что-то надо было менять ему в жизни, но что и как, он не знал. Завести жену? Привести в дом чужую женщину, далёкую от его мыслей и переживаний? Вон сколько угорских красавиц, дочерей баронов и дворян, не сводят с него сластолюбивых очей! Нет, всё это не то.
Воротиться в Русь? А кто его ждёт там? Все, кого он знал, давно ушли из его жизни. Дядька Яровит помер в Новгороде, оставив вотчины и богатство пасынкам, уже и князя Всеволода, в дружине которого Талец когда-то служил, нет на свете. И бог весть где носит буйный ветер удатного молодца Бусыгу. Никто не помнит Тальца на родной земле, никому он там не нужен.
Тяжко вздохнув, воевода отвлёкся от невесёлых размышлений. Впереди показались строения Альба-Регии, он подстегнул коня и озабоченно покачал головой, глядя на пьяного, качающегося в седле из стороны в сторону Коломана.
Глава 13. Порушение клятвы
Ханы Китан и Итларь, обряжкнные в цветастые халаты из восточной фофудии[136], сидели перед мрачно хмурящим чело Мономахом, оба наглые, уверенные в себе; говорили, щеря в хищном оскале зубы:
– Каназ, мы приехали творить с тобой мир. Зачем война, зачем кровь? Будем добрыми друзьями, каназ. Дай нам золото, подарки – мы уйдём в степь.
Владимир кусал губы, молчал, думал. Только-только обустроился он в Переяславле[137], стал наполнять новыми людьми изрядно поредевшую в последнее лихолетье дружину, велел ковать копья, доспехи, мечи для ополченцев, начал готовиться к новым большим будущим походам, а тут опять явились эти половцы с долгими речами, за которыми легко угадывалась плохо скрываемая угроза. Мол, не заплатишь, князь, разорим всю твою волость. Силы у тебя осталось мало, помощи тебе ждать неоткуда. В Чернигове сидит враг твой Олег, а князь Святополк – разбит, зализывает раны у себя в Киеве, боится нас, ратует за мир. За нами же – вся степь от Дуная до Волги.
Владимир мог бы сейчас заплатить, откупиться от ханов, заключить с ними мир, но тогда совсем оскудеет его и без того прохудившаяся полупустая скотница[138], и не сможет он подняться, укрепить свою волость, не на что будет содержать войско, и в следующее же лето выбьют его из Переяславля или князья-вороги, или эти же ненасытные степняки. А откажешь, отошлёшь ханов ни с чем – сразу начнётся война, и опять же может он потерять всё, что имеет, всё, что у него осталось.
Раздумчиво покивал князь начинающей седеть головой, окинул ханов грустным взглядом умных внимательных глаз, ответил так:
– Творить мир с вами один не буду. Надобно послать в Киев, сговориться с великим князем Святополком.
– Тогда, каназ, – ответил ему, лукаво улыбаясь, Китан, – дай нам сына своего в залог мира. А сам возьми к себе в аманаты[139] хана Итларя. Мы разобьём стан между валами Переяславля. Будем ждать гонца из Киева.
Мономах согласился. Он уже знал, что Тогорта, Боняк и Арсланапа увели большие силы за Дунай, в Ромею, и в степях сейчас осталось не так много добрых воинов, но он усиленно делал вид, что не ведает этого и страшится половцев. Боязливо отводя очи, вздыхал, казался печальным, растерянным, уставшим, унылым, чем вызывал усмешки ханов и укреплял их уверенность. В конце концов Мономах дал клятву, что не нарушит соглашения, не причинит никакого лиха Итларю и его людям. Китан тоже поклялся не чинить зла княжескому сыну. На том и расстались, каждый думая о своём.
…Утром вместе с Гидой князь Владимир проводил в недалёкий, но страшный путь тринадцатилетнего сына-отрока Святослава. Княгиня держалась спокойно, не плакала, не причитала, она лишь всполошно, быстрыми короткими взмахами руки троекратно перекрестила своё чадо и тихо промолвила:
– Господь да пребудет с тобой, сынок.
А Владимир, грубовато хлопая Святослава по плечу, сказал с натянутой тяжёлой улыбкой:
– Вот видишь. Меняем тя на самого хана со всею чадью[140] его.
Святослав стоял бледный, растерянный, отец ободрял его, говорил:
– Заложники княжьи – дело привычное. День-два минует, приедут люди от Святополка, воротишься к нам сюда, а хан Итларь уедет в свою степь.
Явился взбудораженный двенадцатилетний Ярополк, ухватил мать за длинный рукав суконного платья; скривив недовольно уста, пожаловался:
– Почто не меня, но Святослава отсылаете? Я б ентим поганым показал!
Гида зло прикрикнула на него:
– Не твоего ума это дело! Ты ещё тут будешь советы давать!
Ярополк, обиженно вздыхая, отошёл в тёмный угол. Владимир привлёк его к себе, приобнял, ласково потрепал по густым волосам.
Во дворе ждал Святослава белоснежный фарь с дорогой сбруей и золотым стременем. На голову отрока надели золочёный шишак, на плечи набросили подбитое изнутри мехом алое корзно. Сопровождаемый несколькими дружинниками и дядькой-пестуном, Святослав выехал через Епископские ворота к городским валам. А навстречу ему во главе отряда половцев ехал в широкой мохнатой шапке, в богато отделанном серебром кожухе важный и торжественный Итларь.
…Только после отъезда сына Гида дала волю слезам. Бессильно упала на кровать в ложнице[141], уткнулась лицом в подушку, беззвучно горько разрыдалась. Владимир стоял рядом с нею, смотрел на её вздрагивающую голову в затканном серебристыми крестами тёмном повойнике[142], сжимал уста, молчал. Понимал: слова утешения бессмысленны и бесполезны.
Поздно вечером, в сумерках примчал, весь в снегу, посланник Святополка – боярин Славята. С мокрой от снега светлой бородой, погрузневший на обильных киевских харчах, ражий толстомордый новгородец, как узнал, что половцы во главе с Итларем остановились на подворье у боярина Ратибора, тотчас предложил:
– Дак цего ж мы ждём?! В меци их!
– Безлепицу глаголешь! – мрачно перебил его сидящий тут же, в княжеской гриднице, Ратибор. – Ежели мы – хана, так они княжича Святослава сгубят.
Славята с хитроватым прищуром повертел головой, подумал, посмотрел на полное тревоги лицо князя Владимира, посоветовал иное:
– Тогда с Итларем погодим. Надоть средь ноци к им в стан пробраться, с торцинами вместях. Княжица вызволим, Китана и его людишек перережем. Тихо, ни един не уйдёт. А после поутру и Итларя концим!
Разбойничьи белесые глаза новгородца горели огнём, он в нетерпении потирал руки, облизывался, как волк, подкрадывающийся к овчарне.
– Да ты что, боярин?! Как же можно нам уговор с погаными рушить?! Что ж мы, клятвопреступники?! – ужаснулся Владимир.
– Э, княже! – Славята небрежно махнул десницей. – Да какие тамо с ими уговоры, какие клятвы! Они ж их первые и порушат. Им от тя одно надобно – злато, узороцье. Цтоб было цем коней своих вонюцих кормить да баб во цто наряжать.
– Славята прав, – неожиданно поддержал его Ратибор.
За ним следом согласно закивали головами, заговорили Ардагаст, Станислав Тукиевич, Мирослав Нажир, другие бояре. Владимир, бледнея, медленно поднялся со стольца[143]. Сказал, хмурясь:
– Заутре пошлём в стан половецкий гридня с шубой для княжича Святослава. Мол, отец передаёт, хладно, ветер, застудиться можно. Со стены подсмотрим, в каком шатре Святослава держат. А нощью, с торчинами вместях, и налетишь, боярин Славята. Одно помни: за сына моего головой отвечаешь.
– Да полно те круциниться, княже! Ницего с сыном твоим не содеица. Не ждут поганые, не думают, будто ведомо нам о Тогортовом походе, – засмеялся, обнажив ровные крепкие зубы, Святополков посланец.
…Выбирались из ворот неслышно, затаив дыхание, сжимали в руках сабли, мечи, кинжалы, луки. Едва заметными тенями подползли к стану, все переодетые в половецкие кожухи и шкуры. Открыто, не таясь подошли к кострам, негромко заговорили по-кипчакски с ничего не подозревавшими стражами. Вскоре тихие вскрики нарушили безмолвие зимней морозной ночи. У шатра, где обретался Святослав, после короткого шевеления и приглушённого звона железа распахнулась войлочная занавесь. Дрожащего от страха княжича водрузили на коня, помчали назад к воротам. И как только скрылся он во тьме за стеной Детинца, гулко прозвенел в ледяном воздухе протяжный волчий вой – знак атаки. Служивые переяславские торки, кольцом охватив вежи, бросились на спящих половцев.
Славята с обнажённой, измазанной в крови саблей выволок из шатра упирающегося Китана, повалил его навзничь возле костра, с яростной силой вонзил саблю в грудь. Хан, захрипев, дёрнулся в предсмертной агонии и, весь в крови, замер на снегу. Славята, ругнувшись, вытер саблю и сунул её в ножны. Оглядевшись по сторонам, он удовлетворённо усмехнулся. Всюду были трупы половцев, торки уводили коней, хватали женщин, где-то раздавался детский плач. Но в спящем затаившемся среди снежных валов Переяславле за каменными стенами царила тишина, только ветер свистел зверем в слюдяные окна боярских хором. Этот же ветер запорошил снегом остекленевшие мёртвые глаза убитого Китана.
…Обнимая живого и невредимого сына, Гида уже не сдерживалась, плакала, не таясь, выла навзрыд, тёплые материнские слёзы орошали бледное лицо напуганного княжича. Святослав молча кусал дрожащую губу, затем всё-таки не выдержал, опустился на колени и тоже заплакал, утопив лицо в складках материнского платья.
Владимир, стоя у плотно затворённого окна, думал о другом. Ему было страшно порушить, преступить клятву, пусть даже данную врагу, клятву вынужденную. Но в то же время он понимал, знал – иного нет, поздно горевать и жалеть о свершённом. Мысль же была у него такая: не дать степнякам передышки, немедля снестись со Святополком, соединить силы и ударить по станам левобережных половцев. Пока Тогорта и Арсланапа воюют где-то далеко и сил у поганых немного, надо нанести им ответный неожиданный удар, отомстить за разгром на Стугне, за сожжённые дотла, уничтоженные русские городки. Пусть знают, какова цена их клятвам, и пусть также ведают, что не останутся безнаказанными их нескончаемые лихие набеги.
Утром явился Ратибор, доложил:
– Итларя и его чадь перестреляли стрелами. Ни един не ушёл.
Слушая боярина, Мономах ещё сильнее убеждался в правильности своих намерений.
Глава 14. Развод Мономаха
О том, что с женой близится разрыв, Владимир понял, когда стоял над трупом Китана на пороге вежи под валами Переяславля. Гида была тут же, но зачем пришла, откуда взялась, он так и не понял. Мёртвый Китан с вытаращенными от страха глазами и искривлённым в немом крике ртом вызывал в душе у Владимира одно тупое ожесточение, одно злорадство. Вспоминал князь, как подсмеивался над ним половец несколькими днями назад, как требовал серебра за мир.
«Вот тебе серебро, вражина!» – готов был воскликнуть Мономах.
Сам не знал князь, что побудило его поднять голову. Словно о стену, натолкнулся он вдруг на полные ужаса тёмные Гидины глаза. Наверное, всё у Владимира на лице было написано, все мысли его и чувства вырвались наружу и отразились в злобном волчьем оскале. Княгиня не выдержала, вскрикнула, шарахнулась от него, бегом бросилась прочь. Скрипел под ногами снег, ветром разметало в стороны долгие рукава её собольей шубы.
После, в хоромах, за ужином, она молчала задумчиво, не смотрела в его сторону, бледность растекалась по красивому, гладкому, как в дни незабвенной молодости, челу.
Разговор, решительный, резкий, неприятный, состоялся позже, когда остались они с глазу на глаз в княгининой опочивальне.
– Всё видела… Как ты… – начала она сбивчиво, сперва тихо, но затем, волнуясь, перешла на крик… – Ты нашего сына едва не погубил! Как ты мог! Знаю: отомстить захотел за неудачи свои, за брата, за Стугну, за Чернигов! Стоял там, над трупом хана когда, одна злоба тяжкая, одна ненависть звериная во взоре твоём читалась! А сын наш! Он тут при чём?! До сей поры дрожит, яко в лихорадке, спать не может! Устала я, князь! Одно лихо вы с братией своей на земле сеете! И чад моих ввязываешь ты в сию круговерть! Они, мальцы, дети невинные, страдают! Почему о них не думаешь?!
Владимир попытался возразить, начал было оправдываться, говорить:
– Не я зла творец. Лишь ответил я. А сына выручил, не дал погинуть.
Понял тотчас, что напрасны слова, что виноват, что зря, наверное, послушал он Славяту и Святополка. Было ощущение бессилия, безнадёжности и бесконечной усталости.
А Гида, перебив его, продолжала кричать:
– Надоело мне всё! Походы твои, рати, Переяславль этот! Половцы, коих набеги новые сами же вы со своим Святополком топерича вызовете! До чего ты дошёл! Погляди на себя! Клятву порушил! Для тебя, выходит, клятва всякая – яко словеса пустые! Думаешь, поверила я, когда ты отца своего оправдывал?! Думаешь, дура, да?! Не поняла, как князь Изяслав[144] погиб?! Не уразумела, кто сына его Ярополка погубил?! Кто ко Глебу Святославичу убийц подослал?! Кто за голову Романа Красного вонючему Осулуку заплатил?! Всё то вы со своим отцом сотворили! И не молви, будто не ведал ничего! Еже и не ведал, так догадывался! Господи, да что ты за человек?! У тебя хоть страх Божий в душе есть?!
– Что несёшь?! – отпрянул от неё Владимир.
Слов больше не было, было одно отчаяние. И была боль, слёзы выступили на глазах. А Гида не унималась, гневно сдвинув брови, продолжала она бушевать:
– Не могу более так! В Новый город, ко Мстиславу[145]… К Гарольду, первенцу своему, отъеду тотчас! Поутру велю возы закладывать. И дочерей обеих заберу. И Марицу, и Софью. Не хочу… не хочу делить с тобой преступленья, князь!
– Зачем тебе ехать сейчас? Ветер, стужа. – Мономах понимал прекрасно тщетность своих слов.
Гида в ответ лишь презрительно фыркнула. Вдруг сказала неожиданно спокойно, одолев приступ гнева:
– Отныне не по пути нам с тобой, князь Владимир. Добьюсь с тобой развода. Приму постриг в Кёльнской обители. Я хотела так поступить, когда была молодой. Но приехали послы от тебя с предложением замужества. Сомневалась, испрашивала совета у матушки игуменьи, у сестёр. Не знаю до сей поры, правильно ли поступила тогда… Но зла на тебя… Нет, не держу. Ты меня любил и берёг, разумею… И потом, у нас сыновья, дочери. Просто мы разные люди… И должны расстаться. Твоя дорога – это битвы, победы, власть. Мой путь – молитвы, забота о детях. И ещё… Хотелось бы мне побывать в Иерусалиме… Но женой тебе я больше не буду.
Владимир старался держаться хладнокровно, лишь стискивал кулаки, с болью и горечью понимая: она права!
До утра просидел он, не смыкая очей, в книжарне.
Уходила Гида, с нею вместе уходила часть его прежней жизни. Никогда не воротятся весёлые охоты в черниговских пущах, никогда не увидит он больше едва сдерживаемого восторга в ставших такими родными её глазах, не услышит короткое и тихое «люблю», от которого радостно затрепещет сердце.
Надо было держаться, одолевать свои слабости и невзгоды. Напрягая волю в кулак, отодвигал он в сторону тяжёлые мысли и сожаления о былом.
Одно знал он твёрдо: несмотря на потери, на ссоры, на неудачи, ждёт его впереди трудный путь, который должен он пройти достойно.
…На исходе той зимы киевская и переяславская дружины впервые за много лет вышли в ближнюю степь и повоевали половецкие вежи. Разбив в коротких яростных схватках несколько вражьих отрядов, взяв большой полон, русы с победой воротились домой. Но поход этот стал только началом долгой и кровавой войны.
…Поздней осенью княгиня Гида стала постриженкой женской обители Святого Пантелеимона в Кёльне. Жить же она стала в Новгороде, вместе со старшим сыном. Владимиру писала бывшая жена долгие пространные грамоты, рассказывала о своей новой жизни. Странно, даже после развода она продолжала поддерживать его. Князь понимал: делает она это ради детей, но всё равно – пусть хоть малость самую, но становилось приятно. Думалось: как бы там ни было, но не чужие они с Гидой друг другу люди.
В один из тусклых осенних вечеров гостил Мономах у боярина Ардагаста. Пили ол[146] и медовый квас, говорили о половцах, о предстоящих ратях, о Киеве и много ещё о чём. Прислуживала князю за столом молодая девушка с русой косой до пояса, статная, румяная, стойно яблочко наливное.
– Дочь. Евфимия, – не преминул похвалиться боярин.
Боярышня без особого стеснения стреляла в сторону Мономаха своими глазками ярко-синего цвета. Запала князю в душу юная дева. А тем часом Ардагаст продолжал подливать масло в огонь.
– Вот, верно, княже, тоскливо тебе одному пребывать. Сыны по градам разъехались, супруга твоя постриг приняла. Дак, может, того… Поглядел бы на девок наших переяславских. Хороши! Мыслю, сыщешь себе средь них и княгиню достойную.
Владимир усмехнулся в ответ.
– Кажется, нашёл ты уже мне невесту. Али как, боярин?
Ардагаст скромно потупил очи и промолчал.
– Ну что ж. – Владимир решительно поднялся из-за стола. – Коли так, сожидай сватов.
Он заметил, как расцвело в улыбке полное лицо боярина и как вспыхнули огнём ярко-синие глаза юной Евфимии.
…Девка эта была как огонь яростный, быстро утомляла она сорокадвухлетнего князя, хоть и не слаб он был телом. После пальчиком она легонько проводила по шрамам на его теле, вопрошая:
– А сие где ты получил?…А енто что?…От сабли след?…А то волк тя укусил?…А енто – след от рога лосиного?… Чудно́, княже.
Она восторженно смеялась, радуясь тому, что вышла замуж, и за кого! В ней не было сдержанности и чопорности Гиды, вся она была как распустившийся бутон цветка, как солнышко светлое, напитанное сочными живыми красками лета.