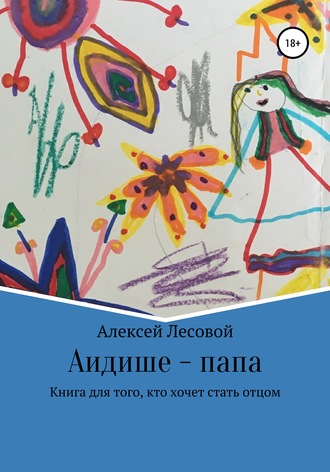 полная версия
полная версияАидише папа: книга для того, кто хочет стать отцом

Ребёнку не нужно многого, чтобы он почувствовал себя счастливым. Ерунда, что дети сегодня слишком требовательны и разборчивы в получении удовольствий. Самый простой и доступный способ заставить сильнее биться его сердце – поощрить его своим вниманием. Посмотрите, что он делает, похвалите результат. Предложите показать, что он умеет, чему сам научился или чему научили в садике, школе. И лицо его просияет. Дети ждут от нас одобрения. Дети хотят нам нравиться. А мы так часто к ним невнимательны. У нас голова занята совсем другим. Хвалите чаще своего ребёнка. Ему это приятно, ему это нужно. Не перехваливайте, но находите повод подчеркнуть его сильные стороны. Сам умылся, почистил зубы, заправил постель, придумал игру, оказал посильную помощь в готовке и уборке. Не жалейте «спасибо», закрепляйте положительный стереотип на нужные ему и вам действия. Бывают во время такой помощи по хозяйству и проколы. Моя «стряпуха» Варя вызвалась печь блины вместе со мной. Она уже знает рецепт и последовательность действий. Мы замесили тесто. Теперь предстоял финальный этап – выпечь сам блин. И тут она не рассчитала. Пока несла в поварёшке тесто, часть его по дороге пролилась мимо. Я сделал ей замечание. Второй блин. Та же картина. Тесто на полу и плите, а не на сковородке. После третьего промаха я не выдержал и отправил ее восвояси. Варя расстроилась и заплакала. Я совершил ошибку, терпения не хватило. Пришлось извиняться и объяснять, почему я вспылил. «В следующий раз будь, пожалуйста, внимательней и собранней», – закончил я наставительную беседу. «Хорошо, договорились?» Дочка нехотя кивнула головой. «У нас с тобой блины не получаются. А вот с мамой выходит нормально. В следующий раз я буду с ней их делать», – озвучила свой вердикт Варя. Она права. Я был наказан совершенно справедливо, а она – нет.
Родительское внимание нельзя подделать. Оно либо есть, либо нет. Тут нельзя наполовину. Но вы не можете вникать во все нюансы и мелочи жизни детей. Хотя, что считать мелочами, а что важным, ещё спорный вопрос. Да, у нас часто не хватает времени вникнуть в суть проблемы и порой она кажется совсем не существенной. А в итоге все может обернуться серьёзной обидой на родителей и это та трещина, которая отделяет нас дальше и дальше. Помню, в свои 7 лет, я решился бежать из дома. Что послужило причиной такого радикального решения, в памяти моей не отложилось. Нельзя сказать, что я рос сорвиголовой. Скорее, наоборот, пай-мальчик. Тем удивительнее решение покинуть семью. Я был не один. План побега мы обсудили с сестрой. Насколько все было серьёзно и осознанно говорит тот факт, что предварительно мы изъяли из шкатулки родительские сбережения. Далеко мы не ушли. Пропажа наличности была вскоре обнаружена, и нас ждал семейный разбор полётов. Кажется, была даже порка.
Со слов моей мамы, я был очень обидчивый мальчик. Мог надуться и выпятить губу из-за любой мелочи, а потом ходить и ни с кем не разговаривать. У девочек механизм расстройства устроен иначе. Сдерживать слёзы им не надо. Я думал, старшая мне уже продемонстрировала весь девичий арсенал рыданий и всхлипов. Не тут-то было. Когда подросла Варя, мы перешли на новый уровень слезливости. В ее огромных голубых глазах влага появлялась через доли секунды. А причиной могло стать что угодно: невидимая царапина на ноге, не полученная от сестры игрушка или слишком холодное (горячее) молоко перед сном, даже просто необходимость встать с кровати. Буквально все жизненные перипетии могли вывести мою девочку из равновесия. Она и сама это понимала, но сделать ничего не могла. Мы сначала утешали ее, как могли, потом уговаривали, повышали голос, стыдили, потом в принципе перестали реагировать. Варя продолжала реветь. Наконец, воспитательные беседы возымели действие. Через какое-то время слез поубавилось. Она сама с гордостью заявляла: «я сегодня ещё не плакала». Но все равно не проходило дня, чтобы Варя как следует не разревелась. И вот, слёзы позади. Ну, или почти позади. Не думаю, что заслуга в этом избавлении целиком основана на моих с супругой педагогических талантах. Просто закончился определённый период развития психики. А Варя сумела совладать с эмоциями. Преодолела в себе слабость. За что ей честь и хвала. Она это знает и немножко гордится этим. Мы же своей непримиримой позицией по «слёзному вопросу» помогли ей в этом. Кто знает, если бы мы решили терпеть и реагировали бы на рёв непрерывными утешениями и сюсюканием, возможно, Варины глазища до сих пор были бы на мокром месте.
А вот самая младшая моя «дщерь» Лиза пока позволяет себе пустить слезу лишь в самых исключительных случаях. Падения, царапины, ушибы, ссоры с сёстрами и родительское наказание проходят почти всегда «всухую». Должно случиться что-то экстраординарное, чтобы она заревела. Значит, больно не на шутку. Или очень обидно. Но Лиза обижаться не любит. Она первая идёт мириться. Подходит, обнимает и целует, куда дотянется.
Поводов для обид в жизни множество. Скажем, Саша совершенно не умеет проигрывать. Любая игра для неё – это сражение, где победителем может выйти лишь она. Когда этого не случается, на пол летят фишки, в воздух карты и игра подходит к завершению, но не к концу. Пересилить себя она не может. Поэтому в последнее время отказывается играть вообще. И так не только в настольные игры, а во всех играх вообще. Либо действуем по ее правилам, либо никак. Надо отдать ей должное. Саша – большая фантазёрка и любит придумывать игры сама. А раз твоя игра, то и правила тоже. Но остальные на это не согласны. В итоге все быстро переходит в стадию обмена мнениями на повышенных тонах. А крик и ссоры – тоже до определенного момента прекрасный способ выйти на первый план.
И вы можете помочь детям реализоваться в этом, ведь в каждом ребёнке скрыт актёрский талант. У кого-то хорошо получается смешить других. Случайный трюк, гримаса, подражание взрослым или животному, а может, соседу по парте, оборачивается взрывом хохота окружающих. Ребёнок обязательно запомнит это и в следующий раз воспользуется своим конкурентным преимуществом для получения «минуты славы». У другого отлично выходит прыгать. Что ж, отлично. Устройте для него показательные выступления – домашние олимпийские игры. Мы своим девчонкам паркур в квартире организовали. Они были счастливы.
Глава 23. Третий уровень. За гранью возможного.
Когда Варя подросла немного, я стал так уверен в себе, что предложил жене задуматься о третьем киндере. «Бог троицу любит», «где два, там и три» – каких я только пословиц не вспомнил, мотивируя на принятие решения. Мне действительно казалось, что особых трудностей быть не должно. Мы прошли уже достаточно долгий путь и приобрели опыт, как обращаться с детьми. Справиться с еще одним карапузом – дело техники. Жена, как ни странно, не возражала. На торжественную выписку в роддом пришли старшие сёстры. Им была делегирована честь по очереди вести коляску до дома. Обе из кожи вон лезли от старания и проявляли максимум заботы. Лиза, видимо, прочувствовала этот момент и вскоре начала «тянуть одеяло» на себя. Все пережитые мной до того крики младенцев меркли в сравнении с ее руладами. Она умела так их закрутить, что терпению моему очень быстро приходил конец. Меня как будто подменили. Лизин плач просто выводил из себя. Я не мог его слышать. В это время я пришёл к выводу, что все дело в высоте звука и интонации. Действие младенческого плача на взрослого обусловлено индивидуальной переносимостью или непереносимостью последнего. С младшей дочкой как раз такая история вышла. Все приёмы, навыки и наработки полетели к черту. Весь накопленный опыт оказался коту под хвост. Я стал совершенным психом. Мне пришлось покупать себе успокоительное.
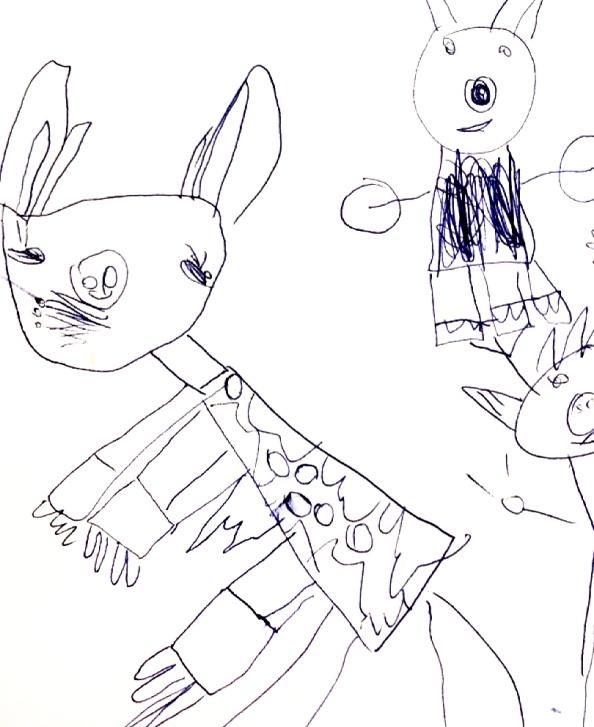
На фоне моего буйства и Лизиных представлений, а девочка категорически не хотела засыпать, изводя себя и нас плачем, больше похожим на кошачий концерт, жене наверняка тоже не помешали бы какие-то умиротворяющие таблетки. Как раз в этот период раздался один звонок. Звонили из «Типат Халяв», в буквальном переводе – «капля молока», а в жизни – отделение по уходу за младенцами и детьми до двух лет, в котором ведут наблюдение и ставят положенные прививки. Служащая поинтересовалась у супруги, как она себя чувствует после рождения третьего ребёнка, и нет ли у неё послеродовой депрессии. Может быть, ей нужна консультация и поддержка. Она, естественно, их поблагодарила и ответила, что все в порядке и помощь ей не требуется. «Надо было им сказать, что явные признаки депрессии наблюдаются у мужа», – огорчённо заметил я. И, в общем-то, это так и было. Ведь через три месяца жена снова вышла на работу, а я остался дома с «кошачьим хором».
Работникам «Типат Халяв» мы благодарны по сей день за их человеческое отношение, которое они проявили ещё к нашей старшей дочери, когда мы только переехали в Израиль с 8-месячным ребенком. Вместе с ней мы привезли с собой из России «книжку прививок». Снова приходится вспоминать о том, как были организованы прививки там, в Ижевске. В детской поликлинике возникало полное ощущение бесправия во всем, начиная с фойе и гардероба, где шустрые старушки тобой командуют, почём зря. Тут не стой, там не ставь, пеленать не здесь, туалет закрыт. Сплошные ограничения и запреты. А ведущий осмотр врач или медсестра глядят на вас с нескрываемой тоской. Улыбнуться ребёнку им и в голову не приходит. Тем разительнее выглядела перемена в отношении к детям в Израиле. Гражданства у Саши на тот момент ещё не было, а продолжать ставить прививки надо. Мы пришли в «Типат Халяв» узнать как страховка, которую мы на неё оформили, покрывает обслуживание. Нам дали очередь на приём. В назначенный час мы были на месте. Медсестра первым делом дала Саше игрушку. Потом вторую. Дочка не на шутку ими увлеклась. Пока мы вели разговор, она детально исследовала кабинет. Ползала под стол, стулья, вела себя очень раскованно. Игрушки падали из ее рук, мы их поднимали, они снова оказывались на полу. Ни одного замечания в ее и наш адрес не последовало. При этом медсестра умудрялась расспрашивать, нас какие прививки ребёнок уже получил и про состояние его здоровья. Про страховку не было сказано ни слова. Выяснив все, что ей нужно, сотрудница составила для нас график посещений и дальнейшей вакцинации. После взвешивания и измерения роста, она уже не как врач, а как обычная мама со «стажем» начала давать советы, чтобы нашу «стройняшку» привести в надлежащую форму. Чего только стоит рекомендация дать на пробу все подряд со своего стола, вплоть до селедки с картошечкой! Когда же в конце мы озвучили волновавший нас вопрос страховки, она ответила, что пока не знает, как с этим быть, но нам волноваться не стоит, ребёнок получит все необходимые прививки, которые получают дети, рождённые в стране. Мы вышли потрясённые и просветлённые. Оказывается можно так с улыбкой и без лишних формальностей проявить внимание к проблеме, раз речь идёт о здоровье ребёнка.
Я не хочу идеализировать израильские детские поликлиники и больницы. Они часто бывают переполнены и ждать очереди приходится долго. Но когда вы, наконец, оказываетесь на приёме, врач отнесётся к ребёнку максимально заботливо и обязательно после осмотра маленького пациента предложит ему наклейку с картинкой в награду за мужество. Или ещё какой-то подарок вручит. Без этого дети кабинет не покидают. В процедурных кабинетах та же система. Прежде чем взять кровь на анализ, медсестра поинтересуется у ребёнка всем чем угодно: в каком классе он учится, что любит есть, какой подарок ему подарили на день рождения. Профессиональное «заговаривание зубов» помогает детям снять стресс перед неприятной процедурой. Кроме того, отношение врачей к ним как к самостоятельным и взрослым людям тоже помогает им собраться и ощутить некую ответственность. И это не подход одного врача, это целая система приема.
Впрочем, на нашу Сашу эти увещевания не действовали совершенно. Она уже в коридоре вся сжималась в кулак, и разогнуть ей пальцы для забора крови было по силам лишь цирковым силачам – тем, что гнут в разные стороны подковы. «Предсмертный» вопль оглашал весь больничный этаж в тот момент, когда игла была еще по дороге к ее пальчику. Медсестра в ужасе шарахалась прочь и вытирала испарину. У меня самого после такой экзекуции ещё долго тряслись руки.
А Лиза на уколы почти совсем не реагирует. Переносит боль как настоящий стоик, почти без эмоций. Может в младенчестве накричалась, не знаю. Наше «противостояние» с ней длилось примерно год. За это время я превратился в изнурённого старика, вздрагивающего при одном лишь намёке на детский писк. Перейдя рубеж второго года жизни, Лиза неожиданно успокоилась и стала воплощением уравновешенности и оптимизма. Хотя в середине ночи она все еще встает и идет к маме – нет, не из-за кошмаров или болей – просто потому что ей «скучно спать». Но она больше всех у нас в семье любит обниматься и целоваться, за что и получила прозвище «лизун». «Как корабль назовёшь»…
Глава 24. Не идеальные предки
Часто ли я задаю себе вопрос, какой я отец? Справляюсь ли я со своими обязанностями, с той ответственностью, что взвалил на плечи, решившись завести троих детей? Нет, не часто. Рефлексия, которой я очень увлекался в мое «холостое время», уступила место деятельной суете семейного уклада. В потоке жизни, где дети образуют неудержимый водоворот, в который воронкой засасывает все подряд: ваши прошлые увлечения, неизжитые страхи и избитые комплексы, места для спокойного, взвешенного анализа почти не остаётся. И все же стоит порой попытаться абстрагироваться от насущного и спросить себя: а так ли ты прав, когда втолковываешь своим детям основы добра и зла? Показываешь где белое, а где чёрное в крапинку. Кто тебя уполномочил на эту миссию, кто дал тебе право судить и объявлять приговор? Не прав. Часто ошибаюсь. Признаю это.
Терзания на счёт родительского мастерства и долга вполне оправданы. Мы все несовершенны. Но вместе с тем, хотим добиться от своих детей идеала. Чтобы они были лучше нас. Не совершали те же ошибки, не теряли попусту время. Самоедством периодически полезно заниматься всем, помогает перевести дух. Но корить, а тем паче обвинять себя в недостаточном рвении уж точно не нужно. Желание быть хорошим папой – нормальное желание, а стремление быть лучшим ни к чему. Быть родителями – это работа. Повседневная, ежечасная, без выходных и перерывов на обед. В ней есть масса приятных сторон, от неё получаешь удовольствие, с ней никогда не скучно. От неё устаёшь, выматываешься, ее иногда слишком много. Но нельзя этот труд превращать в жертвоприношение. Не стоит приносить свою жизнь на заклание. Не оценят. В первую очередь, сами дети. И бросьте пытаться горы свернуть ради ребёнка. Ему это не нужно. Может быть, так хочется вам. Тогда, это уже о другом, а не о воспитании.
Когда моя старшая подросла, я вознамерился водить ее в кружки. Решил для начала что мы пойдём на танцы. Она не возражала. Два раза в неделю мы посещали это мероприятие. Как водится, потребовалось приобрести для начинающей 4-хлетки специальную форму. Студия танца считалась одной из престижных, желающих отдать в неё своих «питомцев» было хоть отбавляй. Стоило это тоже недёшево. Но, какие тут разговоры об экономии, раз девочка хочет научиться танцевать. Я, как и прочие увлеченные родители, приводил Сашу на кружок, помогал ей облачиться в ее балетную униформу (раздевалок в этом кружке почему-то не предполагалось, мы все делали в коридоре), а потом час, подперев стену (стульев тоже в достатке не было), ждал окончания занятий. Наконец, один танцкласс «выпархивал» наружу из душного зала, а его место бежали занять следующие перспективные балерины. На выпускное годовое представление были приглашены все родители. Пришли и мы. И без того тесный и душный танцкласс превратился в настоящую душегубку. Но мы мужественно все терпели и не роптали, ведь нашей девочке здесь нравилось. И вот они выбежали, встали по периметру зала и показательные выступления начались. Не думаю, что интересно описывать все, что там происходило за эти сорок пять минут, растянувшихся на вечность. Больше всего я запомнил, как дети дружно легли на пол и начали по нему ползать с тряпочками, явно изображая Золушек. Достаточно бередить воспоминания, хватит об этом. На одном кружке я не успокоился. Вскоре добавились рисование, театральный и пение. Четыре раза в неделю я бегал по разным концам города и таскал за собой Сашу, а в коляске нас сопровождала недавно родившаяся Варя. Ни Саша, ни я восторга от такого графика не испытывали. Скорее, мы оба задавали себе один и тот же вопрос: зачем нам все это? Но отступать не в моих правилах. И все продолжалось по нарастающей. На следующий год на смену танцам пришла акробатика, какое-то время спустя вновь вернулся балет, уже классический. Дочка быстро загоралась новым увлечением и также быстро охладевала к нему. Но деньги были уплачены и планы озвучены. Бросать все на полпути категорически не хотелось, да и обидно было. Столько усилий бы пропало всуе. Они и так пропали. Саше все было не интересно. Она старалась на занятиях. Иногда даже дома нам показывала то, чему научилась на кружке, но спустя месяц-другой ей становилось все равно. Поэтому мы решили из всех кружков оставить лишь один. Перед началом нового учебного года я решил серьёзно поговорить с дочкой, благо она уже повзрослела. «Если тебе не хочется, мы не будем никуда тебя водить. Подумай и сама реши. Что выберешь, то и будет». Саша решила продолжать ходить на балет. Но прозвучало это не слишком уверенно. Думаю, она просто не хотела меня расстраивать.
Понятно, что родителям не безразлично, будут ли их дети маяться от безделья дома (хотя, на самом деле отпрыски в это время сидят с гаджетами и потому на судьбу не ропщут) или пойдут на в кружок, чтобы «развиваться и обогащать свой кругозор». Их вполне закономерно волнуют и деньги, потраченные на дополнительную учёбу. Им хочется видеть результат своих, а также, отчасти, детских усилий. Помню, после третьего или четвёртого занятия на кружке рисования поинтересовался у Саши, чем они там сегодня занимались. Что им рассказывали, чему обучили. Ответ ее был обескураживающе прост: «Ничего нам не рассказывали. Преподавательница поставила музыку и сказала – рисуйте, что захотите». «И все!?» – не поверил я своим ушам. «Все», – отчеканила дочка. Она вышла из класса, неся подмышкой лист, испещрённый цветовыми пятнами. «Так я и дома могу с тобой заниматься. Зачем тебя сюда тогда водить?» – не удержался я. «Согласна, папа, может и не стоит», – не моргнув глазом, ответила мне Саша.
Все, что мы можем дать нашим детям, кроме набора генов, разумеется, и наследственных пороков, это эстетическое видение, представление о прекрасном и нравственные ориентиры. Ну, максимум, ещё привить чувство вкуса. А остальное – это самостоятельный выбор индивида, его желание приложить усилия и судьба. У кого к чему предрасположенность свыше, кому, в чем везёт: в любви или картах. Мы, родители, больше не причём.
Хорошо бы ещё свои взгляды на жизнь детям не навязывать, а иметь мужество принимать их собственные. В этом и заключается преемственность: вы передаёте набор инструментов, обучаете навыкам, как с ними управляться. Дальше дело за ними. Пусть что хотят, то и строят как хотят. А вы принимайте все как должное, не судя и не ропща. По крайней мере, вслух. Тогда вас точно можно причислить к «идеальным предкам».
Еще одно лирическое отступление. «Они и мы».
Саша пошла в первый класс, как и все местные дети, в 6 лет. Вместо порядковых цифр 1, 2, 3, 4 и так далее, классам здесь присваивают буквы алфавита. Класс «Алеф» («А») – начальный. Примерно через месяц после начала учебы нам пришло письмо от классной руководительницы, что для сполчения класса всех детей разбили на «пятёрки» и они по кругу должны ходить друг к другу в гости. Был составлен график посещений. Наша очередь подошла весьма скоро. Честно говоря, мы с женой находились в лёгкой панике, чем нам развлекать местных детишек. Мы побаивалась, наглядевшись на их раскованные манеры и зная о полном отсутствии привычной нам иерархии, когда слова взрослого имеют хоть какой-то вес. С детьми, рождёнными в Израиле, этот подход не работал. Они считали ниже своего достоинства безропотно подчиняться взрослым. А нам нужно было продержаться часа два. За это время, как мы предполагали, четверо «головорезов» обоего пола, а девочки здесь по бойцовым качествам не уступают мальчикам, могли на кусочки разнести нашу квартиру и взять нас самих в заложники. «Мозговой штурм» в преддверии визита определил два направления, по которым мы будем держать оборону. И оба они были связаны с едой. Зная пристрастие израильтян к еде, а также их искушённость, если не привередливость, в блюдах, мы решили не рисковать и бить наверняка. В качестве нашего домашнего «урока-занятия» для гостей были выбраны шоколадные шарики. Готовятся они просто, дети с удовольствие их лепят и потом, естественно, поглощают. Этот приём блестяще сработал. Никто не отказался участвовать в священнодействии с печеньем и шоколадом. Маленькие шестилетние израильтяне ничуть не капризничали, а лихо крутили шарики в своих ручонках, бурно выражая восторг от происходящего. И вообще, они казались вполне милыми и воспитанными. Шумели не сильно, по квартире не носились. Сидели себе в детской и о чем-то болтали. Довольно равнодушно они встречали наши попытки угостить их овощами и фруктами, мы были наслышаны, что местные их потребляют в неимоверных для нас количествах. Развлекать, как выяснилось, их было вовсе даже не нужно. Они сами спокойно развлекались. Второй нашей домашней заготовкой была всего-навсего пицца. Идею подсказал мой товарищ, в своё время переживший не один такой «дружеский визит вежливости». Его дети учились в средних классах и он чувствовал себя в разговорах о школе истинным гуру. «Работает безотказно», – делился он опытом. «Пока они ее съедят, пора уже расходиться будет». Так оно и вышло. Два часа пролетели быстро. Мы были на седьмом небе от счастья и осознания, что успешно прошли этот тест на терпимость. Стали подтягиваться родители, чтобы увести домой своих детишек. Я, на волне небывалого возбуждения от удачного контакта с неведомым мне миром «сабров» – так именуют в Израиле, состоящем из эмигрантов и потомков эмигрантов, тех, кто родился уже в этой стране, предлагал каждому заглянувшему в дверь бокал вина и сырную нарезку. Местные удивлялись, но не отказывались. От выпитого мой энтузиазм рос на глазах. Наконец, все дети разошлись. Мы были психологически вымотаны, но горды собой. Мы справились с задачей. Теперь очередь других родителей развлекать гостей. И они прекрасно это делали, обходясь без пиццы. Вырезали из бумаги, клеили, строили вместе замки… Саше понравилось ходить в гости к одноклассникам. Вскоре мы поняли, что это повальное увлечение для детей. Каждый старался побывать у всех. Составлялись очереди и пары. Кто, к кому, когда. Мы, разумеется, не имели ничего против того, чтобы дочка погостила недолго в том или ином доме. Но нас смущала спонтанность принимаемых решений. Приходя забирать Сашу из школы, я наталкивался на ее подружку, которая уверяла, что хочет отвести ее к себе. В этом случае меня волновал и останавливал только один вопрос «А родителей ты предупредила, что хочешь домой гостью привести?». Чаще всего эта светлая мысль даже не посещала детскую голову. Зачем? «О чем тут думать, мои родители возражать не будут». И все же мне было не с руки доставлять хлопоты и неудобства малознакомым людям. Я отвечал отказом, но не окончательным. «Давай, ты предупредишь заранее своих маму с папой, что зовёшь Сашу в гости, и, если они не возражают, мы определим какой день для них удобнее». После моей тирады мечтательный огонёк в глазах приглашающей стороны гас. Слишком сложно, слишком много условий. Так уже не интересно. Но я представлял себя на месте родителей девочки, которая, никому ничего не сообщив, привела домой гостью. Для меня тут же нарисовалась бы проблема. Чем ее кормить, как развлекать? Что скажут на это ее родители, а если у них были другие планы. Местные же взрослые относили к этому совершенно также, как дети. Они просто не заморачивались никакими «если». Их не смущало наличие дома ещё одного ребёнка, двух, трёх, не считая парочки-тройки своих собственных. На обед в основном подавали макароны в разных вариациях. И моя привередливая Саша их спокойно уплетала. На фоне этого благолепия я стал понимать, что являю собой характерный пример «тревожного» родителя, озабоченного кучей несущественных мелочей. И это была правда. Моя щепетильность выглядела натянуто и претенциозно, балансируя на грани высокомерия. Все попытки урегулировать неожиданные визиты говорили скорее о нежелании идти на контакт. Так оно и было. Так и есть. Признаю это.

