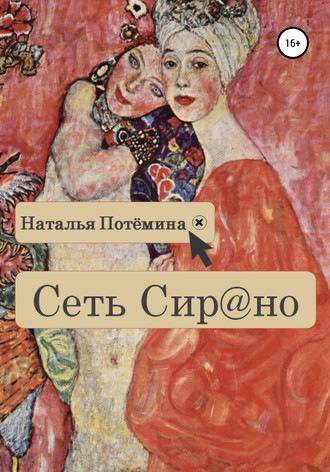 полная версия
полная версияСеть Сирано
– Таня, ты чего разошлась-то так? – засуетилась Чигавонина. Побежала на кухню. Принесла воды. – Может все не так и страшно, как ты малюешь.
– А ты это у дочери своей спроси, у Ирки, – устало сказала тетка. Зубы об стакан. Сигареты. Пепельница. – Мне не веришь, пусть она тебя просветлит. А мне Ольки моей по самое горло хватает.
– Некого мне спрашивать, Таня, – Надька присела на край дивана и стала рыться в своем бауле, – Ирка моя из дома ушла.
– Как ушла? – не поверила тетка, – куда?
– А бог ее знает, – пожала плечами Чигавонина, – может, у подружек ночует, может, у мужика какого…
– А что случилось, Надь? По какому поводу драка?
– Да с жиру бесится! – взвизгнула Надька. – Ты еще, Таня, меня раздражать будешь! Из-за Епифанова все, неужели непонятно?
– Она что, не захотела с ним встречаться? – догадалась тетка.
– «Не захотела!» – передразнила ее Чигавонина, – не захотела – это не то слово. Она мне сразу ультиматум выдвинула: или я, или он.
– А ты что?
– А я что? – усмехнулась Надька, – отец же, говорю. Родная кровь. Пора бы познакомиться.
– А она?
– Пошел, мол, он «на»… Такой отец. Тридцать лет как-то жила без него, еще столько же проживу.
– Что это она так сурово?
– Не знаю, Тань. Не знаю, что и подумать. – Надька подошла к зеркалу и приложила к груди зеленое платье, – так что банкет на время откладывается.
– А Борис, как я вижу, остается?
– Какой Борис?
– Годунов.
– Годунов – да! Пока еще в силе, – Надька примерила черное платье, – а может, Тань, лучше красное с бусинками?
– Да хоть серо-буро-малиновое… Мне Ирку твою жалко.
– А чего ее жалеть? Не по подвалам же гуляет. А деньги понадобятся – сама домой прибежит.
– Все равно – жалко.
– А меня, Таня, тебе не жалко?
– И тебя жалко. И меня жалко. А особенно нашу Витусю.
– А что с Витусей? – занервничала Надька, – причем здесь, вообще, Витуся?
– Не хотела тебе говорить, – вздохнула тетка, – но она приходила ко мне.
– Зачем?
– Неужели непонятно?
– На Сашку посмотреть?
– На него.
– Так я и знала! – взорвалась Надька, – опять она мне дорогу перебежать норовит!
– Да какую дорогу, Надя! – тетка тоже разозлилась, – у нее же муж, семья, девчонки! Столько лет прошло!
– Подумаешь, муж! Семья! Старая любовь не ржавеет!
– Еще как ржавеет! И ничего от нее не остается.
– А вот у меня, Таня, осталось, – неожиданно тихо сказала Надька, – как будто бы и не было этих тридцати лет…
– Господи! – всплеснула руками тетка, – и что только вы в нем нашли?
– Ты знаешь, Таня, какой он красивый! – заулыбалась Надька, – как поздний Никита Михалков или средний Вилли Токарев… Голос такой ласковый… Глаза бархатные… Таня, я по нему умираю…
– Да поживи еще немножко, порадуйся…
– Я и радуюсь, Таня, я и живу… Им одним…
– Бедная Витка!
– У тебя сегодня все бедные! – снова взорвалась Чигавонина, – одна я богатая! Бедная Витка! Бедная Ирка! Думаешь, легко, Таня, мне было одной дочь поднимать?
– Это ты мне говоришь?
– Ну да, Таня, ты тоже мать-одиночка. Только Витка как порядочная устроилась!
– Не завидуй, Надь. Ее жизнь тоже не малина.
– Это почему еще не малина? Дом – полная чаша. Ни дня не работала! Не то, что мы, Таня, верблюды ломовые!
– А тридцать лет под Пашей полежать не хочешь?
– А ты что думаешь, она вместе спят?
– А дети-то откуда?
– За всю жизнь, может, и было четыре раза. А так, Таня, я точно знаю, они все тридцать лет, как брат и сестра.
– Я тебе не верю.
– И не верь. Но кому, как не мне, знать?
– Надя! – до тетки, наконец, дошло, – так ты все это время с Виткиным Пашей?
– А что? Она мне сама разрешила. Чтоб к ней лишний раз не приставал. Не фонтан, конечно, но в засуху и Паша – рыба.
Тетка рухнула в кресло и тихо произнесла:
– Бедная Витка!
– В общем, я пошла, – засобиралась Чигавонина, – заговорилась я с тобой. А мне еще в банк надо, а потом на фирму за платьями…
Надька явно пожалела о том, что сказала. Но слово – не птичка, назад не вернешь.
Расстались они непривычно холодно.
– Дверь за собой захлопнешь? – спросила тетка, не трогаясь с места, – у меня тоже работы выше крыши.
Надька молча кивнула и, забросав платья в сумку, тихо удалилась.
Тетка села за стол и тупо уставилась в монитор.
Вот так, подумала тетка, жизнь смешная штука. Сначала на троих мужика делили, потом на двоих, а в конце – все одной досталось.
Она убрала с экрана Барабанщика и стала искать флэшку в ящике стола. Лексеич просил написать короткую рецензию для глянцевого журнала. Не ее это была работа, но разве шефу откажешь? Хотя бы вскользь прочитай, попросил он ее, странный какой-то роман. Не знаю, типа, что с ним и делать.
Что там роман, усмехнулась тетка. Жизнь куда страннее.
Флэшка все не находилась, и тетка с трудом справлялась с раздражением. Хотелось бросить все на пол и растоптать. А потом пойти на кухню и напиться. А потом побить посуду и громко поругаться матом. А потом заплакать и уснуть лицом в китайской лапше. А потом проснуться и завыть. А потом…
И тут в левом углу компьютера замигал спасительный желтый маячок.
Наконец-то, обрадовалась тетка. Вот только тебя мне и не хватало. Одной рукой она потянулась за очками, другой нажала на мышь, чтобы увеличить фотографию. Потом взгляд на монитор… И тут же кромешная темнота.
Ольга
Я на цыпочках подкралась сзади и закрыла ей ладонями глаза.
– Доброе утро, мамочка!
Ее реакция была, по меньшей мере, странная. Точнее, ее не было совсем. Мать молча сидела в кресле, не подавая ни малейших признаков жизни. Я убрала руки и заглянула ей через плечо. Мамины глаза были по-прежнему закрыты.
– С тобой все в порядке? – тихо спросила я.
– Все в порядке, – ответила она, – что-то вдруг в глазах потемнело.
– Я тебя испугала? – заволновалась я, – тебе нехорошо?
– Нет, мне хорошо, – она открыла глаза. Взгляд ее уперся в монитор.
На экране улыбкой в тридцать четыре зубы светился очередной претендент на мою руку и сердце.
– Хорошенький, – сказала я, – на Че Гевару похож.
– Посмотри, как его зовут, – спросила мама, – что-то у меня все, как в тумане.
– Может, тебе скорую? – снова забеспокоилась я, – как ты себя чувствуешь?
– Как его зовут? – настаивала она, – можешь ты мне ответить?
Я убрала фотографию и открыла анкету:
– Марат, – прочитала я, – тридцать шесть лет. Город Москва, метро Октябрьская.
– Слава богу, – выдохнула мать, – пойдем пить чай.
– Я не поняла, что «слава богу», мам?
– Да так, показалось.
Ну, показалось, и показалось. С кем не бывает? Пойдем пить чай.
– Почему ты сегодня не в университете? – спросила мама, наливая в чайник воду.
– Проспала, – соврала я.
Не рассказывать же ей, в самом деле?
– Нехорошо, – сказала она, – перед самой защитой…
Но как-то тихо сказала, беззлобно. По всему было видно, что ей не до меня. Вот и славно. Мне тоже не хотелось сейчас с ней ничего обсуждать. Помолчим, попьем чаю, разойдемся по делам.
– Ты знаешь! – вдруг встрепенулась мать, – Ира Чигавонина из дома ушла.
– Погуляет – вернется, – усмехнулась я, – первый раз что ли?
– Понятно, не первый, – вздохнула мама, – но сейчас все так запуталось…
– Это из-за вашего Епифанова, что ли?
– Ну да, – вяло ответила мать.
Я поставила перед ней чашку. Она сунула в нее ложку и стала размешивать воздух.
– Мам, очнись, – сказала я, – хрен с ним, с этим Епифановым!
– Да, ты права, Оленька. – Мать подняла на меня глаза и улыбнулась, – давай лучше по бутербродику.
Я налила ей чаю и полезла в холодильник. Сыр, колбаса, два йогурта. Ее обед, мой завтрак. Поедим и разбежимся по комнатам. Она будет править свои тексты, а что буду делать я?
Что мне теперь делать? Понятно, что в университет я больше не пойду. Понятно, что Илюшеньку я больше не увижу. Понятно, что диссертацию я защищать не буду. Только вот как сделать так, чтобы и мама все правильно поняла?
– Пойду, пожалуй, поработаю, – сказала мать, отодвигая от себя чашку, – прибери тут… Если тебя не затруднит…
– Хорошо, мамуль, не беспокойся.
Какая-то бледная она сегодня, замученная. Ей надо больше на воздухе бывать и хорошо питаться. А то эти вечные сыр, колбаса… Фрукты надо есть и овощи. И так мне ее жалко стало, до слез. Для чего человек живет? Непонятно.
Я вымыла посуду и тоже пошла к себе. Села на кровать, задумалась. Когда неожиданно появляется много свободного времени, трудно сразу сообразить на что его потратить. Можно, например, навести порядок. Не простенький такой, не ежедневный, а глобальный генералиссимусовский порядок, чтоб все блестело и отражало в своих зеркальных поверхностях мою утомленную непосильным умственным трудом физиономию.
На столе куча бумаг, книги всюду разбросаны… Вполне рабочая, понуждающая к труду обстановка. А зачем нам теперь трудиться? Все что могла, я уже сделала. Одной диссертацией больше, одной меньше – какая разница? Школа! Вот кто по мне плачет. Дети, я вас ненавижу! Такие мелкие, злобные, глупые создания. Зачем вы появляетесь на свет? Кто вас сюда звал? Нет бы, сразу все рождались взрослыми. Младенцы – какая гадость! Если мне вдруг и придется родить, то я откажусь от своего ребенка. Оставлю его нафиг в детдоме. Зачем воспитывать урода? Или, скорей, уродину? Воспитывай – не воспитывай, все равно получится такая же дурочка, как и я. Как моя мама Таня. Как тетя Надя Чигавонина. Как тетя Вита Чмух. Как тысячи, как десятки тысяч и миллионов других несчастных теть, несбыточно мечтающих, что если не им самим, то уж их ненаглядным дочерям повезет обязательно.
Накося, выкуси! Все повторяется. Жизнь движется не по спирали, как хотелось бы, а по кругу. И что тут плохого? Круг – гениальная геометрическая фигура. То же самое, что и колесо. Куда пнули, туда и покатится. Легко, без сучка, без задоринки. А все потому, что вниз. Сами колеса вверх не взбираются. Для этого силы надо приложить, мозги подключить, а на это немногие способны. Вот и я… Куда лечу? Куда послали.
А послали меня далеко и надолго. Здравствуйте, дети, я ваша тетя. Вернее, тетка. Тетка «намбе ту». Садитесь, дети. Меня отдали вам на жестокую расправу. Располагаете мной так, как вам удобно. Только знайте, я долго не продержусь. Первый же урок станет последним. Или для меня, или для вас.
Дети! Пожалейте себя, не становитесь взрослыми. Для чего вам это надо? Не для того же, чтобы совокупляться и плодить себе подобных, еще более несчастных детей? Несчастных, а потому и жестоких. Счастливые дети – добрые дети. Злыми бывают только несчастные.
Кто бы знал, как я не хочу в школу! Упасть бы сейчас лицом в подушку, закрыться с головой одеялом и задохнуться насмерть. Именно задохнуться, а не уснуть. Потому что спать становится все опасней. Все чаще приходит тот сон, после которого жить хочется еще меньше, чем обычно.
Или убежать на край света, никому ничего не сказав. Чтоб не догнали. Чтоб бросились искать и не нашли. А потом поплакали обо мне и забыли. А я бы сидела себе у самого синего моря и бросала камешки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза.
Но даже на такое мелкое безумство я нифига не способна. Одеяло на голову и в цирк. Акробаты, клоуны, факиры. Обезьяны, собаки, лошади. И гвоздь нашей программы Голубая женщина!
Голубая женщина, в красивом голубом платье скачет на белом коне по бесконечному кругу. Играет музыка, гремят литавры, на арене цирка новый аттракцион: «Голубая фея и ее мертвый ребенок». Как она красиво скачет, как ловко держится в седле! А ее ребенок, маленькая девочка, тоже вся в воздушном и голубом тащится сзади. Мама заботливо привязала свою дочуру за ногу к хвосту лошади. Как весело, как смешно они все вместе подпрыгивают! Женщина – на лошади, лошадь – на арене, девочка – при каждом ударе головой о бортик.
Зачем вы привязали ее за ногу, кричит из публики старая тетка. А чтоб не сбегла, отвечает фея. Но куда она убежит? Она же уже мертвая! Вы ошибаетесь! Она живая! Она живее всех живых! Зачем же вы мучаете ее, кричит тетка, зачем издеваетесь? Потому что она уже мертвая, смеется женщина в голубом, ей все равно, а нам приятно! Отдайте мне ее, тетка спускается к арене, и это уже не тетка, а старая клоунесса. На ней рыжий парик, широкие желтые штаны и маленькие красные туфельки. Она бежит вслед за лошадью и тоже смешно подпрыгивает. Кругом кричат: «Браво!.. бис!… ай, да клоун!… ай, да сукин сын!» Лошадь взлетает под купол цирка, а тетка снизу тенет к ней руки: «Девочка моя, Оленька!»
Под утро опять был этот сон. Ни к чему хорошему он не снится. Каждый раз как в первый. И вроде уснула так хорошо, спокойно, с надеждами на новый светлый день, и вот тебе, милая, билеты в директорскую ложу. Цирк зажигает огни!
Если он сегодня не позвонит… А собственно, почему он должен мне звонить? У Ильи Петровича сегодня заседание кафедры, он и не вспомнит. А если и вспомнит, то постарается забыть. Но это днем. А вечером? Сегодня же четверг, наш любимый день.
Свободна, говоришь? Наконец-то свободна! Не ври себе, дурочка. Так не бывает. Побегала по городу, промочила ножки и все сразу как рукой. Отсохло, заглохло, съежилось. Смешно думать, что я отделаюсь от своего ненаглядного одной бессонной ночью. Страшно предположить, сколько таких ночей у меня впереди. Жизнь – арена цирка. Страшное и смешное рядом. И снова круг со всеми натыканными в него ножами. А посередине круга – я. А ножи все продолжают лететь. И я знаю, что недалек тот день, когда ножеметатель промахнется. Верней не промахнется, а попадет точно в цель, в мое скачущее, сжавшееся от ужаса сердце. Аккуратнее, дружок, публика тебя за это не похвалит. На то ты и снайпер, чтоб не попасть. Вокруг лучше обстреляй, силуэтик только на арене обозначь, и все – ты Мистер Икс! Цветы роняют лепестки на песок… Никто не знает, как мой путь одинок…Живу без ласки, боль свою затая… Ну где же сердце, что полюбит меня?
Тетка
Тетка вошла в свою комнату и закрыла дверь на ключ.
Потом села за компьютер и открыла сайт знакомств. Общая папка, первый по списку. Марат, тридцать шесть лет, метро Октябрьская.
Откуда ты взялся, пацан? С каких поднебесных высот вернулся? Что не леталось тебе там, не вальсировалось? Не дышалось свежим воздухом, не моглось? Может, воспоминания нахлынули? Или по нам, грешным соскучился? Или долги какие остались… Неотданные?
Здравствуй, Тюльпан, это я.
Не узнаешь?
Это я, Тюльпан, Танька! Ну та, из соседнего двора, которая на твоих похоронах еще в грузовик не могла влезть… Все хохотала, хохотала… Помнишь,? Волосы такие белые, голубые такие глаза?
А еще джинсы. Ну, как ты не помнишь?! Самые первые в нашем дворе, штатовские! И музыка из моего окна все время орала? «lovin Spoonfulls», помнишь? «О бэби, бэби, бэби, я твой дегенерат… О, бей ты, бей ты, бей ты, я буду только рад…».
Танька я! Другана твоего, Епифанова соседка!
Его день рожденья, помнишь? Ну, мы с тобой тогда еще портвейном обожрались? На улицу вышли подышать? А ты говоришь, давай покатаемся? А я говорю, на чем? А ты говоришь, вон на тех «жигулях», а я говорю, поехали, а ты засмеялся и сказал, что твой предок очень бы обрадовался, если бы нас сейчас увидел. Но мы все равно сели и поехали. Быстро так, страшно. Но это сначала было страшно, а потом весело. А за нами менты, помнишь? Как мы долго от них уходили. А потом в гаражи заехали. Ты еще фары выключил, и мы чуть ворота не снесли, помнишь? А они все ездили, и ездили, сиреной орали. А нам что? Мы в гараже. Ты еще целоваться полез. А я говорю, холодно. А ты говоришь, сейчас тепло будет, и печку включил. И стало тепло. И ты полез ко мне в лифчик, но быстро разочаровался, и снова захотел целоваться. Я тоже захотела, но ты вдруг отключился. Надо же так нажраться, подумала я? И решила вытащить тебя на воздух. А ты, гад, такой тяжелый, а я такая медсестра. Вынесу, братишка, не бойся. Сначала ворота открыла, потом за тобой вернулась. Ты весил сто тонн. И голова, как помпончик болтается. А лицо белое. А страна такая огромная. И ее надо защищать. И я тебя спасу, пацан, мы еще детей нарожаем. И вытащила тебя из воронки. И грудью своей накрыла. Накрыла, и тоже отрубилась. А когда врубилось, было уже светло. Нам в лицо фары от другой машины светили. Дядька какой-то сказал, что мы в одной рубашке родились. С включенной печкой в закрытой машине, да еще в гараже долго не живут. А я подумала, что это не рубашка, это все портвейн. Из-за него тебе раньше времени смерти плохо стало. А тут я, сестра милосердия. Танька, ты мне жизнь спасла, сказал ты. Чего там, сказала я. Если что, обращайтесь, мол, я еще не то умею. Но ты больше не обратился. И я вот не спасла. Хотя, наверное, могла бы…
Ты помнишь, Тюльпан?
Твой балкон был как раз напротив моего. Я просыпалась вместе с тобой, и вместе с тобой спать ложилась. Не рядом, конечно, а через двор. Лежу, думаю. Вспоминаю твои ресницы. Как они дрожали тогда, когда ты умирал. И губы синие.
Хочешь, я расскажу тебе про твое утро? Про ночь я мало знаю. Ты возвращался поздно, и я не всегда тебя дожидалась. А утром – другое дело. Мы вместе вставали, я к – окну, ты – на пробежку. Ноги в кеды и вперед. А за тобой Найда, собака наша дворовая. Она одного тебя любила. Как, впрочем, и я. Одного тебя. Всю жизнь. Теперь я это точно знаю.
Хреново там у вас, на облаках? Скучно, наверное? Зато бегать не надо. Взял и полетел! Крылья у тебя белые, большие…. А сам ты черный. Черный тюльпан. Почему мы начали так тебя называть, я не помню. Вроде бы фильм такой был про благородного разбойника, и ты был очень на него похож. Это уже потом твоим именем самолет назвали, который таких, как ты ребят, из Афгана доставлял.
Вот так, Тюльпан, у каждого поколения своя бойня. Если б не она, ты б старше был, а я была б моложе, мой милый, если б не было войны.
Почему ты вернуться? Почему? Может, ты прилетел за мной?
Тетка провела рукой по волосам на портрете. Какие длинные волосы. Ты таких никогда не носил. Но тебе – ничего так, идет. И имя какое странное – Марат. Но зато красивое, звучное. Бедный, бедный Марат. Бедная, бедная Танька.
Тетка понимала, что она сходит с ума. Но если я это понимаю, думала она, то значит, я еще недостаточно сумасшедшая. Значит, еще можно побороться за свою голову, если не продолжать.
Не продолжать, что? Не продолжать сходить с ума добровольно.
Это всего лишь случайное сходство, уговаривала себя тетка. Бывает так в жизни, выхватишь в толпе чужое лицо, и оно вдруг покажется тебе до боли родным. И это гнетет тебя и мучает. И ты начинаешь вспоминать, где, когда, при каких обстоятельствах мы могли встречаться? И чем больше ты об этом думаешь, тем меньше у тебя получается. И не может получиться просто потому, что в этой жизни мы видимся впервые. Чего не скажешь о прошлой…. Но, находясь в здравом уме и светлой памяти, разве можно в это поверить? Другая жизнь? Другие встречи? Другие страны и города? А может быть, даже планеты? Нет! Это невозможно, немыслимо! И голова снова кипит, и шарики вращаются, но где-то в глубине подсознания стоит очень прочная заслонка, которая надежно блокирует процесс, оберегая нас от открытий, к которым мы, видимо, еще недостаточно подготовлены.
Вот и мне надо отгородиться, подумала тетка. Экран поставить между собой и фотографией на компьютере. Чтоб не свихнуться ненароком. Не обжечься. Из этих глаз бьет огонь. Тетка машинально тронула курсор и спустилась ниже, к анкете.
«Честен, прямолинеен, груб… Активен, агрессивен, вероломен… Нахален, страстен, рьян… Заботлив, нежен, обходителен… Циничен, артистичен, приставуч… Пеку блины, жарю картошку… А к мясу вообще никого не подпускаю… В хороших руках… излучаю тепло… Отвечу благодарностью…»
Теперь понятно, улыбнулась тетка, у кого Епифанов спёр свой текст. Вернее одолжил, так сказать, по дружбе. Сашка же двух слов в предложении связать не мог, а Тюльпан был умный парень, начитанный. Непонятно только, почему они вместе ко мне пришли? По старой памяти, что ли? С одним я сексом занималась, другим я бредила, и вот, наконец, оба, оценили?
Таня, возвращайся! Таня, у тебя сносит крышу! Это не Тюльпан, Таня! Этого парня зовут Марат, ему всего тридцать шесть лет! Он, Таня, живой. Он не мертвый, Таня! И не к тебе пришел, а к дочери твоей, Оленьке.
А разве Оленька моя дочь? Она не моя дочь. Она чужая девочка. Почему я обязана с ней делиться? Тем более, что ей все равно. У нее есть, кого любить. Илья Петрович, друг наш сердешный, куда же ты запропал? И Олька в университет не пошла. Почему? Почувствовала, наверное, что здесь, дома ее судьба решается. А вот хрен тебе. Не отдам я его. Даже не надейся.
Марат. Тридцать шесть лет. Знак зодиака – Лев. Профессия – репортер. Между нами чуть больше десяти лет разницы. Подумаешь, какая ерунда!
Тетка снова увеличила портрет и прижалась лицом к монитору. Боже, какой ты холодный! Ну, ничего-ничего, я тебя отогрею. У меня столько любви накопилось, что ее хватит на двоих. Как тебе лучше ответить, милый, чтобы ты не испугался, не уплыл сразу из моих сетей.
Марат – Джоанне. З часа, 24 минуты:
– Доброе утро, принцесса! Добрый день или добрая ночь! Любое время суток станет благословенным, если ты заметишь меня в толпе других, не менее достойных рыцарей. Один лишь взгляд… Подобие улыбки… Дыханья аромат… Я как в бреду…
Тетка откинулась в кресле и задумалась. «Приезжай ко мне девочка, приезжай хорошая» – к такому мы уже как-то привыкли. А с этим, что делать? Парень явно не в себе. Контуженный какой-то.
Тетка радостно поприветствовала возвращающееся к ней сознание. Конечно, это не Черный тюльпан. Это совсем другой парень, дьявольски на него похожий. С того света не возвращаются. А если и возвращаются, то в другой оболочке. Рыцарь, блин! А я – принцесса! Идиот какой-то. Это в наше-то время.
Тетка специально подначивала себя, чтобы окончательно вернуться из своего далекого прошлого в сегодняшний суетный и равнодушный мир. А может, наоборот, может этот парень не так уж и глуп? Разве можно пропустить мимо ушей такое признание? Мог бы и не стараться. Пропустить мимо глаз такое лицо – просто невозможно.
Джоанна – Марату. 13 часов, 54 минуты:
– Досточтимый рыцарь, приветствую тебя в моем замке и приглашаю украсить своим присутствием мою не такую уж и многочисленную свиту.
Пожалуй, так. На первое время хватит, подумала тетка, а там видно будет. Если процесс пойдет, то мы найдем, чем его поддержать. Мастерства-то не пропьешь. Вон сколько их, доведенных до последней точки кипения и брошенных за ненадобностью из-за Олькиного глупого упрямства.
Илья Петрович, Илья Петрович! Погань мутная. Вон какие пацаны в очереди простаивают! Лишь только свет – и все у наших ног. Только намекни – все сделают!
В дверь тихо постучали:
– Мам, с тобой все в порядке?
Вот и Оленька, девочка моя. Очень кстати, подумала тетка.
– Все в порядке, Олюшка, – откликнулась тетка, судорожно переводя Марата из общей папки в черный список. Уж там-то его точно никто искать не будет.
– А, что закрылась-то тогда?
– Уже открываю…
Ольга вошла в комнату и с некоторым недоверием посмотрела на тетку:
– Точно все в порядке? Какая-то ты странная сегодня, таинственная.
Тетка попыталась уйти от ответа:
– Олюш, а может, все-таки сходишь с каким-нибудь мальчиком в кино?
– С каким еще мальчиком? – недовольно буркнула Ольга.
Но в ее коротком ответе тетка почувствовала какие-то новые, заинтересованные нотки. Она подошла к компьютеру и ткнула мышью в первую попавшуюся красную строчку, извещавшую, что избранный экспонат находится сейчас на сайте.
– Доктор Дима, – сказала тетка, – очень интеллигентный молодой человек.
– Дима, так Дима, – легко согласилась Ольга, – напиши ему, что я согласна.
– Ну нельзя так сразу, Оленька, – вдруг засопротивлялась тетка, – надо его немножко помуружить.
– Ну, тебе виднее, ты же теперь у нас крупный специалист.
– Оленька, – тетка обернулась к ней, пропустив мимо ушей явную издевку, – вот мальчик спрашивает, любишь ли ты кофе с пирожными?
– Напиши ему, что пиво с воблой мне нравиться гораздо больше…
– То есть, ты поужинаешь с ним, чем-нибудь легким, средиземноморским? Или лучше суши?
– Да мне по барабану! – Ольга подошла ближе и уставилась в экран, – этот что ли?
– Ну да, – пожала плечами тетка, – по-моему, очень милый.
– А не очень мы его разводим для первого раза? – засомневалась Ольга, – японский ресторан не забегаловка. А он – всего лишь доктор.
– Ничего-ничего! – успокоила ее тетка, – чем дороже женщина мужчине обходится, тем больше он ее ценит.

