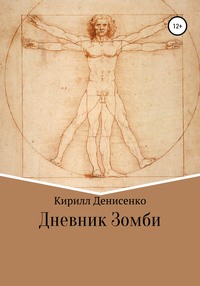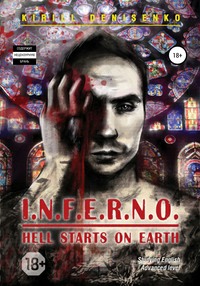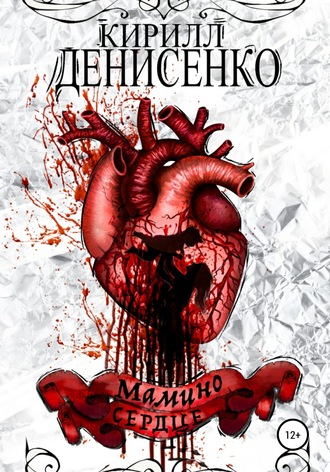
Полная версия
Мамино Сердце
Не такие ж разве здесь среди ровных дорог и красивых домов, бродили порванными и оторванными от своего я, молодые люди, стараниями шакалов – продававших и скупавших, ширявшихся до заката, валявшихся за кустами. Стонущих, в беспросветном поиске счастья?..
Её удивляло, почему никто не замечал… Чувствуя руку сына и его настороженный взгляд, напряжение, пульсирующую жилку вены на виске, она поняла, – и, он, замечал, как и она. Илейн подумала, что лучше было б если смерть всех их – этих наркоманов, моральных уродов – побрала, а потом, к ней в душу, нет, из самой души, прояснилось решение, что каждый из них человек, каждый рожден был от любви матери и отца, и каждый из них живой человек, личность, хоть потрепанная, погрязшая… но личность. И, бесчеловечно, думать, о смерти таких людей, ужасно полагать, что пути к исправлению отрезаны от них и ни на что больше они не годны. Такое отношение даже к наркоманам неправильно. Но, и правда была на том, что и каждый кто подсел на наркотик – будь это что угодно: вещества или род какой другой разрушительной деятельности – человек подсев, подсаживает всё своё окружение. Расползается, как опухоль ища и за пределом друзей и родных. Люди подсевшие – превращают жизнь любящих их людей в каторгу; и вытягивают жизненную силу… и, всякое смирение перед этим недугом и прощение, надежда на просвет, они – зависимые – веру и душу, как клещи кровь из бродячего оставленного животного будут тянуть, облепляя и облепляя, заражая и превращая каждый день в беспросветное горе, пока не умертвят, а сами не покроются коростой.
И остаётся только молитва и борьба. Действовать, и верить, что и их всех обязательно посетит Христос…
Не мщение от нас требуется. Думала Илейн. Нет в нём необходимости… Не уничтожение не угодных, бессмысленных и влачащих существование сродное злокачественным опухолям… Людям, со всем осмыслением, необходимо желать только исцеления, чтоб они обрели смысл, вернулись в первозданное лоно чистоты, здравой и ничем не оскверненной любознательности. Среда воспитывает поколения… Как в далекие времена отбирали из христианских семей мальчиков и за десяток лет издевательской муштры выращивали совершенный продукт покорности, яростно отстаивающего своих хозяев и нового бога… Сколько тому примеров… В давнишние времена такие поползновение на мир, потребовали организации крестового похода… Но, он, как и всякая человеческая борьба – будь она и со светлыми и духовными мотивами, всегда несёт кровь и страдание, разгул несправедливости. Нужна молитва и общая вера любящих сердец, направленная на то, чтоб каждый человек обрёл чистоту, стал образом… Новым образом своей жизни. Живым примером культуры, отражающейся и на теле и духе; и каждый стал свидетелем, как изменяется жизнь, исполненная старания и упражнения, физического труда, готовности на безвозмездную взаимопомощь, с верой, не отравленной – фанатизмом… Не зря же когда даже ангел начинает доказывать жестокосердно веру, то становится непременно – демоном. С фанатизмом душа облекается в невидимые кандалы. Только чистая добросердечная готовность молиться и трудиться, развиваться, вырывает тебя из приземлённости, и ты различаешь что в каждом росток света, в каждом потенциал, который ничто не загубит; только от твоих дел зависит степень пробуждения и…
Они вышли к пруду. Она осторожно взялась руками за заборчик и заглянула вниз, видя, как в чернеющей воде плещутся уточки.
…Даже десятки лет если человек жил, что спал, потом один миг, полное отречение прошлого и борьба с самим собой, этим сопротивляющимся разумом, инстинктами и, прорезавшийся клич чистой воли, что была забитой пленницей; вызволи её и себя пробуждённого от оков невидимых тюрем, привычек, служения возникающим «хотелкам»… и не понадобится десяток лет покаяния; если отведенные годы станут служить на осуществление добрых дел, главное из которых спасение в себе того дитя, что ты утратил и вымуштровал притворяться и мимикрировать под мир, который стал пузырём в котором никогда не появится возможность – стать хорошим и правильным, вовлечённым в чужую игру, ставших структурой, сросшейся с масками и выжженными языками....
Илейн с грустью смотрела на сереньких уточек и переливавшихся бриллиантовыми шейками селезней, избравших яркий окрас для привлечения на себя внимания хищников во имя защиты жён и детей, и она, размышляя, о том: почему они, обладая крыльями, мирятся с искусственным прудиком, с затхлой водой, почему не улетят на волю и чистоту, подальше от соглядатаев… Взяла сына за руку, и они пошли не спешно дальше. Ещё было светло, но фонари уже включились. Стало появляться всё больше упражнявшихся в беге людей преклонного возраста; пенсионеров со специальными палочками, вышагивающих держась хорошего темпа. Вдохнула в лёгкие разгоряченный воздух. Ей не хватало его. Не было свежести. Всё будто застыло в искусственности, будто со штекерами в голове, она видела совершенно что-то фальшивое. И нет, какие штекеры… Всё было по-настоящему. Она улыбнулась, повернувшись к сыну и взявшись за его локоть, не догадываясь о боли в суставе.
Я-то, выросла в очень бедной семье, с родителями, которые не могли развестись… Мамочке некуда было бежать… Только в те редкие ночи у родных, стены домов у которых сразу начинали сужаться – и это говорили глаза – из-за тесноты душевной и… Мама, ты терпела мамочка… Отца… Пьяные выходки, бегания с ножом… С четырех лет какие картины… Для чего это всё нужно было… Это абсолютно не нормально… Как сейчас помню: девочкой малюсенькой стою в пижамке, пошитой из наволочки, перекроенной подушки и, держу отца за ногу! Умоляю не убивать мамочку… Господи! Как жив образ и мой голос: папа, папочка, не убивай мамочку!
Илейн ощутила, что плачет… Ноги, как ватные. Какой абсурд, какой ужас… Такого не должно было происходить… Прошла пару шагов и села на скамейку, ровную, красивую, чистую; слёзы не позволяли разглядеть хорошо, но черты сына были выжжены в сердце; и, она всегда его увидит, найдёт, услышит. Кир опустился перед ней на корточки, взяв за ладошки, смотрел-смотрел ей в глаза, прочувствовал её боль, свои опасения за себя и сам немолчно всхлипнул. Она начала вытирать его слёзы со щёк. Он сполз с корточек на колени и положил голову ей на ноги, прижавшись щекой.
– Мамуль спой мне пожалуйста… Твою песню…
Она, вытерев свои слёзы, нежно убрала ему прядь волос за ушко и начав поглаживать по голове, запела колыбельную, которую ей пела ещё бабушка:
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.
Сам узнаешь, будет время,
Бранное житье;
Смело вденешь ногу в стремя
И возьмешь ружье.
Я седельце боевое
Шелком разошью…
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.
Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой…
Сколько горьких слез украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.
Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
По ночам гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю…
Спи ж, пока забот не знаешь,
Баюшки-баю.
Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой;
Да, готовясь в бой опасный,
Помни мать свою…
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
V
Илейн пела, протягивая голосом, что не звучал, как в юности, но несомненно от него по-прежнему воцарялся на душе покой; она представляла сына здоровым, живым, удачливым и, вспоминала, как стихи потерянного ныне автора всё же не изглаживались из памяти, передавались и продолжали жить в человеческих сердцах; она, не сомневалась и сыну небеса подарят своих детей и он взяв их встревоженных ночью, вспомнит слова и мотив её колыбели, сотрясёт страх, беспокойство – и сам ощутит мир в себе и увидит здоровый сон его дитя – предвестник сладостного пробуждения. Она вспоминала, что колыбельная принадлежала автору изглаженного из современной культуры за слова нёсшие духовность, упоминание образов икон, за спасительное руководство к действию, приводившее к молитве, по-настоящему окрылявшей и излечивавшей душу… Звали его, как и моего Мишу, да, тёзки, а фамилия… Точно, Лермонтов! Илейн стало приятно, что из закоулков памяти извлекла имя талантливого человека, его сочиненные и вдохновленные великим опытом и благообразием души строки, переданные ей из уст самой бабушки. Её добрая бабушка Евдокия прошедшая войну, прошедшая тифозные госпитали тех времён… Бабушка, давшая понять, что тот, кто боится и сомневается – вряд ли выживет; бабушка ненавязчивым примером шедшая уверенно с Богом в сердце, молитвой в устах, помогала, делала всё возможное, там где была и там где бы ни находилась; и ни одна зараза – да! – её не взяла. Так и хотела, Илейн, чтоб сын ничего не боялся, верил в себя и какое не было давление моды, законодательного одобрения новых субкультур с деструктивной идеологией, вера верующему явит доказательства и многие чудеса, не желай он этого; даст понимание и извлечёт и из пустынных земель.
– Мамуль спой ещё, – он поднялся с колен, сел рядом и положил голову на её плечо.
И, она, поцеловав его в лоб запела вновь, полушёпотом, невольно, всё сильнее чувствуя рвавшиеся на волю и давно, кажись, позабытые воспоминания, ощущая поток разгоряченного ветра, не способного сдуть усталость и… Илейн, внезапно осознала, что нося отчество данное от имени её отца, никогда не окрашивала его в негативные черты, как одна её знакомая, судьба, которой развела с родителем, не позволяла и обращаться к ней по отчеству. А другие так и вовсе считали, что обязаны поквитаться с каждым мужчиной, априори виноватыми благодаря гендеру, выпиравшему в когорту сопричастных грехам отцов, лица которых те, стремились выморить. Илейн же, выросшая с отцом алкоголиком, никогда не воспринимала других мужчин повсеместными идиотами, а алкоголиков ничтожествами… Она знала, что полюбила мама его и за ум, и за внешность, присущую людям дисциплинированным и их времени – спортивную конституцию. Отец был и мастер спорта по волейболу, участвовал профессионально в турнирах по шахматам, сражаясь порой и с дюжиной соперников – и парадоксально – ни разу не проигрывал. И только с приходом в его жизнь страсти, вытеснившей всё человеческое, вытеснившей и душу, и сердце, разум… Страсть эта началась с сигарет, да, вошедших в жизнь, победоносных попоек. За ними протиснулись другие: разгульный образ жизни, не требовавший дисциплины и борьбы; пошли измены, одна за одной. Казалось бы это всё случайно, но личность её отца претерпевала изменения и уже страсти привязавшиеся к нему, ставшего зависимого такому образу жизни, вытеснили любознательность, прежние импульсы к развитию, а потом и принесли воцарившееся отрицание сверхъестественного и высшего, трансцендентного в жизнях; того, что нечто способно простираться за грани гедонистических угождений плоти, которые воспитали плацдарм чувств, которые не поддаваясь логике обрушивались не объяснимым гневом на любое свидетельство христианской веры, которая приносила утешение её белокурой мамочке, распознавшей яркие примеры приносимые верой; сейчас религия стала либо в отрицание авторитетов или атрибутике – ломкой, устаревающей, но сметаемой огромным спросом; а вот вера, которую не пощупать, была как дуновение ветра: невидима, но осязаемо нёсшей понимание что она несла выздоровление, а как иначе, когда свобода от страстей, это свобода от гнёта и увядания, свобода от греха – хозяйничанье над подлинным я, не отвлекаемым необъяснимым спонтанным прихотям и эмоциям; иначе человек будет вращаться в оковах, свободный принять любые руки, которые б притягивали его к ноге, обрекая служить, но не различай сросшийся с кожей ошейник; и вот отец, так не заметно и обезоружил себя, стал одержим зависимостями и прежде всего алкоголь стал его солнцем, его божком. И, как редко, мы способны признать, что становиться нашим божеством… И, папа, сгубил ты не только своё настоящее, но детство своей дочери сгубил; отнял собственноручно всякую возможность счастливой семейной жизни с любившей тебя моей мамочки… Утоп…
Безразличие испытывала ли она, не смогла б ответить ни сейчас, ни тогда, когда отец развелся с матерью и ушел к любовнице, охочей, как и он до непрестанного пьянства; скорее облегчение почувствовала, но и горечь, непонимание, обиду – не за себя, за мамочку – Ну, как, как прости Господи, можно было женщину, с белоснежной, как выпавший только снег кожей, с золотыми локонами и мифологической красотой, очами зелеными, как молодая листва и с крапинками золота, словно дарованных от самого солнца в восхищение простёршего лучшие из лучей, женщину воспитанную и любящую, променять на одутловатое, не связано бормочущее спившееся чучело? Для которой, выгнал их, спустя пару месяцев своего ухода, и как только зарегистрировался, был незамедлительно сброшен с моста в реку, ту самую реку, которую, ещё не ставший на путь саморазрушения восхваляемого нынче, переплывал много раз в годы своего студенчества, реку, в которой пошёл – скрюченным и похмельным – камнем вниз… Предавший нас свою семью и не давший прорваться собственным талантам, вверенным Богом, блеснувших не познав развития зачатками – ушёл в дремоте бессознательного существования преданным в вечную гиенскую дрёму… Но, теперь от боли, с каждым годом, откалывавшейся, сочившейся утрачивая влияние на неё, она, как дочь, как взрослый человек понимала, что: невозможно, чтобы человека ждали бесконечные муки; что и за века душа, вечная душа пробуждалась, осознавала и раскаивалась, проходя огонь, отрезвлялась той явью сверхъестественного бегства и сколь была оторвана и жизни, своего творца, сталкивалась с олицетворением собственного многочисленного грехопадения, явленного гротескными чертями, – и, Илейн понимала – предназначение и оголённую истину; да и-то, как нагрянет время для каждого, как бы он и она не пали, тот момент, когда из небытия вновь возвратятся к жизни и чрез оправдательный завет спасению, выжив и в печи, приняв живительную росу вымоленной милости… И душа не обуглившись, должна же пристать, подобно как брусок металла, переплавившись, и вернувшись в свою начальную форму и… станет с сонмом детей, которых Христос обогреет большей любовью, большим вниманием и даст испить из источника всепрощенья и нескончаемой жизни, не допустив вновь проживать человеческий опыт на Земле, подвязав на духовный рост… И простила ли она его, хотя по-человечески, непростительно любое разрушение детства, а он разрушил… Но, нести бремя обиды она не станет… А эти эгрегоры о непутевых мужчинах которым только и нужен поводок вложенный в руки умных и сильных женщин царивший то в той, то этой кино-мульти картинах, не встречал её одобрения. Мир вообще не делился ни на что, как она поняла, а такие образы создавали всё больше раздувавшуюся брешь в восприятие реального мира. И росло поколение которым никогда не стать героями в цветастых трико, никогда не пулять лазерами из глаз или управлять мыслями других без последствий, никогда не регенерировать и никогда не обладать никакой супергеройской способностью из дрянного перечня… Им не важно, что они способны быть героями и героинями, им важно, как это делают вымышленные герои. Поколение взращенное и воспитанное равняться на тех, кто способен существовать только в кинокартинах и цветастых журналах с историями, замешанных на гностицизме и древних мифах. В её детство были героями: военные, врачи, учителя, простые пахари, выращивающие хлеб – те, кто и делал возможной цивилизованное и здоровое общество, те кем восхищаясь ты мог стать. А теперь только обманутое общество с вымышленными идеалами вымышленных – в наркоманских на хлёстах – героев. Илейн росла во времена, когда люди любили друг друга, ждали, дожидались, писали… Не пробовали других, как бродячие псы блевотину и всякий оброненный хлам, чтоб понять дорог человек от которого ушли или нет… Раньше если и уходили, то без оглядки… Не цепляясь за кого-то другого. Мерили не кошельком, а глубиной мыслей в глазах, способных потопить и вознести; люди мечтали, согревали улыбками, теплом рук… Сплести пальцы рук с любимым человеком было интимнее и подлиней чем все переписки, лайки и совокупления сегодняшнего дня. Люди любили… Люди могут ещё любить – она искренне верила, – могут любить, выкинув мусор из собственных голов и взглянув без предубеждений и гордыни, прекратив видеть повод для оскорбления и мзды, а только людей…
Она взглянула на безмятежно прогарцевавшую группу конной полиции в красивой форме и почему-то в масках, скрывавших лица, оставив только зоркие глаза и кустистые брови не только мужчин, но и крепкой девушки полицейского, вторившей новой моде, сменившей чересчур выщипанные до ниточек брови на конкретные, схожие с «шерстяными гусеницами». Маски, придавали им очарование родня с мифологическими образами ниндзя так красноречиво воспетых во всевозможном искусстве, особенно кинематографе, приблизившим культуру востока, не затейливо, будто на протянутой ладони в каждый дом. Впрочем, Илейн, удивлялась не рациям, не вооружению, а непонятно к чему понадобившимся к убранству формы холщовых масок.
– Бредовенький ж бредик-то! Почему они не в шлемах, коль хотят так котелки защитить, а тряпицах на лицах? – разделил невысказанное опасение Кир.
– Давай поищем продуктовые магазины родной… Начинает свежеть… – она зябко передернула плечами и поднялась с сыном, провожая взглядом, удалявшиеся силуэты, невольно смотря на блестевшие хвосты кобылиц и меринов с выпиравшими боками. – Не часто у них тут погони случаются…
– А кому что нарушать? – Развёл руки Кир подтверждая риторичность вопроса. – Думаю, мам, тут люди давно походят на отлаженный и единый механизм. Щёлкнет, что, приказ или зараза и, конец, будут, как налипшие бляшки, перекрывая ход кровотоку, мчать, заданным курсом. И ацетилка не рассосёт.
– Господи, скажешь тоже. Пойдём!
VI
Не оставлявшие и намёка на тень трубчатые лампы свисали с потолка небрежно прятавшего бетон, проводку, гудевшие вентиляторы за ромбовидным отливавшим серым пластика, вылитого по типу пчелиных сот на алюминиевых креплениях обымавшего и множество прямоугольных колон, придавая им форму полукружий; на колонах в прорехах сот, запаянных по трое, пряталось с пять разноразмерных камер. Стеллажи – отпечатанные небрежно на 3D-принтерах – выпячивали с гордостью изобилие товаров. Пройдя к холодильным камерам, они смотрели на филигранно нарезанные куски мяса. К удивлению, заметив, что ни ребрышек, ни лопаток, ни мослов – не было, ни одного кусочка, даже ни на косточке. Только мякоть всевозможных размеров. Так же в каждой холодильной камере по верхним алюминиевым струбцинам ездили с завидной скоростью – разветвлявшиеся щупы, походившие на гибрид человеческой руки и щупальцев осьминога, поддевавших и опоясывавших пронумерованные куски мяса и по струбцинам мчавшие к стороне с цифровым табло для оплаты выбранных кусков, вываливались ровными брекетиками, завернутыми целиком в пергамент и перевязанными бечевкой; чаще клиенты, которых они наблюдали, выбирали завернуть, предварительно нарезав на тончащие ломти.
– Технологии… – присвистнул Кир с восторгом. – Чтоб я так жил!
– Да… – Илейн, была поражена. Ни одного человека в обслуживание. Только автоматизированные щупы. Плечи передернулись. В магазине из живых душ – покупатели. Она любила рынки, обоюдные приветствия, диалог, устанавливающийся с постоянным покупателем и продавцом, советы, и в конце концов – спор; возможность торговаться. Все те мелочи – неотъемлемые анахронизмы – сохранявшиеся на рыночках. А тут не задать вопроса, не продавить кусочек мяса. Она подошла ближе. Все кусочки были не естественно красивы. До неправильности идеальны. Блестели. И не намека на за ветреность, потемнение. Розовые. Ни прослойки жира или плёнки. Не крошки от раздробленной кости, обязательно появлявшейся при разрубании туши. Что-то с этим всем было неправильно. Свет освещал мясо, представляя как моделей под прицелом папарацци, прошедших графическую обработку. – Что-то мясо какое-то странное…
– Да оно идеальное! – выдохнул завороженный автоматизированными щупами Кир.
– Вот именно. Будто отрезали от одного гигантского куска. Так не бывает. Оно не красное. Розовое. Будто красили.
– Да… Да, слушай… А вот где они забирают. Давай поближе заглянем.
Кир, не стесняясь людей, присев на корточки, прижался носом к стеклу, Илейн, наклонилась, повернувшись и оглядев сына, спрыснула от смеха, но поправившись, оттянула его от прилавка и разлохматила волосы на голове.
– Мам, там «сносочка» с ценами…
– Сносочка?
– Звёздочка… И текст. Сейчас, засниму на телефон, он переведёт…
Илейн, пока он проделывал свои манипуляции с гаджетом, подошла к терминалу, выбрала килограммовый кусочек мякоти и оплатила карточкой. Механизм, издав пиликанье, полил спреем щуп, вновь засиявший ртутными переливами, и мигом проехался по струбцине вбок и вернулся с добычей, зависнув, пока на сенсорном дисплее высветился ярлык: «Madame, wollen Sie das Fleisch für Sie in Stücke schneiden?».
– Так, Кирюша, что он хочет?
– Мамуль, а это искусственное мясо…
– Как-так?
– Выращенное из клеток говядины на её костях, пере… востановленное, что ль… Этот переводчик… Прям вепрь из Вальхаллы! – встретив не понимание во взгляде, он поспешил разъяснить. – Ну, которым еженощно пировали, восставшие воины, а на утро шли вновь друг с другом сечься, а к ночи, кости срастались его, покрывались плотью и возвращался к жизни вепрь, и его вновь умерщвляли повара и готовили…
– Ужас какой-то!
– Ну, боженька наш Один, лучших воинов так ежедневно муштровал, готовя к дню Рагнарёк… Он, как бы понимал, что «Гибель Богов», так гибель, но всё же надо было её встретить достойно и, возможно, отвести…
– А, мясо, я уже оплатила… Тут есть-то хоть настоящее?
– Видимо, тут оплот современности, поэтому своих же приучили поглощать генетически-модифицированный продукт… Или мы в… Вальхалле! – Кир поднял руки над головой.
– Не смешно, ладно, что он хочет… Нажму нихт.
Кусочек запаковал ожидавший щуп и вывалился ровный брекетик. Илейн, взяла, чувствуя его податливую мягкость, и с каким-то отвращением, бросила в корзинку.
– Давай, поищем, фруктов, хлеба и молока… Минералки…
С молоком их поджидал тот же не приятный сюрприз – срок годности самого «натурального» составлял пару лет, а других доходил и до пяти годов. Зато выбор был роскошный – и миндальное, и клубничное, жирнющее кокосовое, эко и не эко, симуляция козьего, как показал переводчик, а косметических ни счесть: и с гиалуроновой кислотой, и экстрактом протеинов и витаминов группы Б из шелкопрядных гусениц, почечным экстрактом из абортированных эмбрионов. Они даже были на упаковке изображены маленькими и розовенькими на голографических переливавшихся стикерах. Контроль качества запредельный. Когда мобильный гаджет выдал перевод, то Илейн с сыном отшатнулись от прилавка. Затем, Кир, долго обнюхивал упаковки хлеба, смирившись, и взяв тот в котором больше было отрубей, и меньше выражен кисловато-гнилой душок уксуса. К овощам они и не притронулись, взяли только пару исхудавших лимонов в индивидуальных пластиковых упаковках, перекрывавших фрукту сообщение с кислородом. В составе многих соков они находили аббревиатуру всё тех же почечных экстрактов из абортированных детей. Даров моря и вовсе не наблюдалось. Уже, как год из-за вымирания, приведшего загрязнением океанов и мутирующего грибка изжиравшего всё живое на пару с планктон, переставшим выполнять прямую функцию в обеспечение планеты кислородом, вымершего из-за микро-пластика и мутировавшего – многие импортеры морских обитателей или обанкротились либо переквалифицировались. Корзинку наполнили в большей мере – пресной и минеральной водой. Проходя кассы самообслуживания, замедлявшими проход, Кир, открыл бутылку минеральной воды, зажмурился, жадно принявшись пить, и от неестественно горького вкуса и походивших на наждачную бумагу пузырей в воде, с химическим запахом, отнял бутылку от губ, продолжавшую бить на пол пеной.