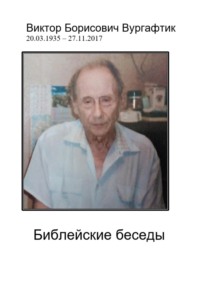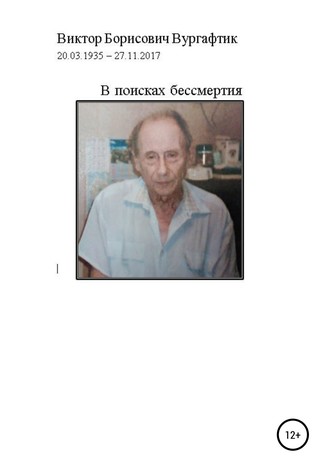 полная версия
полная версияВ поисках бессмертия
Таким образом, у нас нет никаких оснований для веры в близость идеальных фактов к соответствующим реальным и, значит, для отождествления одних с другими. Мы не можем говорить о фактах, которые действительно существуют и вместе с тем познаваемы: существуют только реальные факты, но они непознаваемы; познаваемы только идеальные факты, но они не существуют. Созерцаемых нами объектов в действительности нет. Это отнюдь не означает, что нет ничего из того, что мы созерцаем, так как мы созерцаем не только объекты, т.е. то, что от нас отделено, хотя для нас являются объектами и вспоминаемые нами состояния нашей души, которыми занимается психология.
Итак, если говорить о субъект-объектном познании, что же мы в конце концов познаём? Только одно: какие приблизительно ощущения /показания приборов/ вызовет, по всей вероятности, реальный факт, если мы обеспечим такие-то вызываемые им ощущения /показания приборов/. Или короче: как приблизительно отреагирует /по всей вероятности/ реальный факт на определённые наши действия. Мы нисколько не познаём, что он такое, но в какой-то мере можем избегать вреда и получать пользу, т.е. поддерживать своё существование. Инми словами, это познание служит лишь практике здешней жизни.
Простейшим примером познания этого рода может быть познание того, каким давлением ответит реальный факт, предполагаемый в данном сосуде и отождествлённый с определённым идеальным газом, на создание под поршнем такого-то объёма и такой-то температуры: это познание содержится в законе Клапейрона – Менделеева. Все научные эксперименты стремятся лишь к познанию таких ответов.
Но никакого другого познания нет и во всей тенологии. Производство какого-либо технического устройства – это добыча некоторых материалов, их обработка и соединение полученных посредством неё частей. Можно считать, что все эти операции суть наши действия на некий реальный факт, и что он отвечает на них теми свойствами технического устройства, ради которых мы их совершаем. Например, в результате таких действий мы получаем ожидаемые нами свойства автомобиля: способность двигаться с определённой максимальной скоростью, способность изменять направление движения на определённый максимальный угол и др. Эти свойства суть только наши ощущения /показания приборов/, вызываемые неведомым реальным фактом в ответ на наши действия, благодаря которым он вызывает у нас восприятие автомобиля.
В производственной деятельности идеальным фактом является Земля как тело, удовлетворяющее всей совокупности технологических знаний. Я имею в виду знания следующего типа: если из Земли извлечь такие-то полезные ископоемые, обработать их таким-то образом и полученные элементы так-то соединить, то мы будем иметь автомобиль с такими-то свойствами; если же то, другое и третье сделать так-то, мы получим определённый самолёт, а если так-то – определённый дом и т.д. Всю совокупность технологических знаний можно рассматривать как один огромный закон, который определяет, строит этот идеальный факт – Землю технологии. И хотя он неизмеримо сложнее закона Клапейрона – Менделеева, определяющего идеальный газ, суть познания, содержащегося в том и другом, одна и та же.
Мы не можем считать, что идеальный факт, построенный в субъект-объектном, в частности, научном познании, ближе к познаваемому реальному факту, чем образ, построенный сколь угодно фантастическими высказываниями. Различие между ними только в том, что этот идеальный факт вызывал бы у нас почти те же ощущения, которые мы действительно испытываем, а этот образ – ощущения, которых в действительности у нас нет. В субъект-объектном познании мы строим свой мир – идеальный факт, объемлющий все другие идеальные факты и полагаемый действительно существующим, т.е. объект, который, разумеется, удовлетворяет нашим законам- иначе говоря, космос. В нём мы созерцаем как объекты и самих себя. Но мы не можем созерцать в нём живого Бога, ведь объекты в действительности не существуют, о Себе же Бог сказал: "Я есть Сущий". Подмена существующего несуществующим, которому, кроме того, приписывается существование, есть одно из проявлений греха, состоящего именно в оторванности взгляда от истинного Бога.
Если себя, другого человека или Бога, я созерцаю как объект, то это созерцаемое мною не существует. Но я действительно существую, действительно существуют другие люди, по преимуществу же существование принадлежит Богу. Дело в том, что не только я, но и другие люди в действительности от меня не отделены, т.е. не являются для меня объектами: как исповедует христианское учение, мы все единосущны – представляем собою одно со множеством личностей. Но Иисус Христос единосущен нам по Своему человечеству и единосущен Богу Отцу – представляет Собою одно с Ним – по Своему Божеству, причём Его Божество и человечество нераздельны. Это значит,что Бог от меня в действительности тоже не отделён, тоже не есть для меня объект. Не существуют не люди и Бог, но то, что изображает направленное на них превратное созерцание.
Заметки
Какой бы ни была христианская конгрегация, каждый совершаемый в ней обряд /этим словом я называю здесь и её таинства/ она считает несомненно благодатным, т.е. необходимо приносящим то или иное духовное благо. Так как первоисточником каждого духовного блага является Бог, может создаться впечатление, что в сообщении людям этих духовных благ Он подчинён их обрядовым действиям: если они совершают их, не может не дать им определённого духовного блага. В конечном счёте эта установка в отношении такой благодати подчиняет Бога людям, тогда как в действительности Он абсолютно свободен, обряды же она превращает в магию.
Мне кажется, верно, что обряд всегда приносит духовное благо. Верно и то, что духовное благо даёт только Бог. Но неверно делать отсюда вывод, что в подаче духовного блага Бог зависит от человеческих действий. Я думаю, никто иной, как Бог, даровал их людям, с тем, чтобы давать им в этих действиях духовное благо. Бог хочет, чтобы люди знали, что оно исходит именно от Него, и с этой целью дарит им его не анонимно, а по их обрядовому прошению. Кроме того, Он хочет, чтобы они ощутили его получение, и для этого соединяет его с их действиями, которые являются не только словесными, но также и телесными.
Лука 15:1-10.
Мне кажется, в этих притчах потерявшаяся овца или драхма означает человека, выпавшего из закона, который принят в данном обществе. Книжникам и фарисеям Христос говорит не просто о законе, данном через Моисея, а о той его части, которую, вместе с добавлениями к ней, в то время принято было исполнять. Мытари и грешники, слушавшие Христа, преступили этот закон, были беззаконниками, несущими, поэтому осуждение Бога. Фарисеи же и книжники исполняли его. Они жили в Законе, были овцами или драхмами, которые не потерялись. Перед законом они были праведниками, а мытари и грешники – неправедными.
Но Бог прощает грехи тем, кто их осознаёт, т.е. кается, и в отношении прощения надеется только на Христа. Как пишет апостол Иоанн, «если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он /Бог/, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас о всякой неправды» /1Иоанна 1:8-9/.
Я. С. Друскин говорит, что свободный выбор в действительности не свободен, так как детерминирован /т.е. определяется, обусловлен, продиктован/, во-первых, мотивом выбора, его целью. Я выбираю А потому-то или для того-то: А для меня выгодно, удобно, более приятно или менее неприятно; однако несмотря на это я могу выбрать и не-А – например, для того, чтобы доказать себе, что я свободен, не подчинен выгоде, удобству и пр., в этом случае мой выбор продиктован желанием доказать мою свободу.
Предположим, однако, что моя свобода выбора есть действительная свобода, данная мне Богом. Устраняется ли она тем, что я использую её для достижения моих целей, удовлетворения моих желаний? Доказывает ли это, что я не свободен? Разве Бог не использует Свою несомненную свободу для достижения Своих целей и согласно Своим желаниям? Вот какое сомнение вызывает во мне этот довод Друскина.
Во-вторых, говорит он, свободный выбор детерминирован его формой – тем, что в определённой ситуации я не могу его не совершить. Я могу выбрать А или не-А, но не могу избежать самого выбора. Если даже я откажусь выбирать, это будет выбором невыбора, т.е. я всё-таки совершу выбор. Я заключён в свободу выбора и не могу из неё вырваться.
Если, однако, Бог определил человеку быть свободным в смысле свободы выбора, если она есть неотъемлемое свойство человека, без которого он уже не есть человек, то вполне понятно, что он не может от неё уйти и не может не осуществлять её в конкретных актах выбора. Но значит ли это, что у него нет свободы? Ведь и Бог не может отринуть Свою несомненную свободу. Поэтому и относительно второго довода Друскина во мне возникает сомнение.
Друскин говорит, что свобода выбора есть сам грех, так как является состоянием «я могу сам» /слово «могу» не означает здесь какую-либо силу – физическую, психическую, денежную или иную/, в действительности же всё делает Бог, и, значит, сам я ничего не могу сделать, состояние «я могу сам» всецело и всегда противно Божьему устроению всего, иначе говоря, представляет собою сам грех. Ввиду того, что каждый свободный выбор есть осуществление свободы выбора, т.е. греха, он является конкретным грехом, или прегрешением, независимо от того, что я выбираю – почитаемое у людей добрым или злым.
Бог в несуществующем
Бог в несуществующем. Это значит: кругом Него ничего нет, Он – единственное что и значит: само что. Здесь что и само – одно: Сам Бог. Он – единственное существование, которое есть само и сотворил что – ничто само по себе и без Бога. В сотворённом что нет ничего своего или самого, оно уходит от себя – так оно существует, его существование в том, чтобы не быть самим, тогда это первое ничто – ничто Бога. Но может быть и только может быть самим; как само – второе ничто, без Бога. Бог сотворил что, одно что: ничто без Бога, ничто Бога, т.е. Божье ничто. Что, которое не есть само – первый сотворённый Им мир: мир перед Богом. Само ничто – второй мир, без Бога – сам, только возможный. Но здесь Бог может стать и быть, здесь есть само, а там – что без самого. Бог в несуществующем, это значит: нет ни правил, ни законов; выше существования, понимания, природы. Здесь всё может быть, и здесь может быть, что и у нас всё станет, есть и может быть, у нас – во втором мире, но в первом нет самого и что там будет, не останется, но уйдёт: ниже – к нам или выше.
Примечания
1
«Когда взрослые начинает какую-нибудь работу, а детей превращают в зрителей, время для них ползет еле-еле, как тяжело груженная повозка. А взрослым что – они легко сносят это медленно ползущее, бесконечное время. В этом искусство взрослых. Дети же, погруженные в топкое болото ожидания, волнуются, злятся, но в конце концов вынуждены подчиниться бесконечно долгому течению времени. И детям хочется кричать от радости, стоит им заметить, как стрелка, указывающая на движение времени, передвинулась вперед. Так они связывают себя с действительностью. Взрослые же спокойно прохлаждаются в недвижной заводи времени, будто принимают ванну. И вполне довольствуются этим» (Кэндзабуро Оэ).
2
«Трактат формула бытия II»
3
«Трактат формула бытия II»
4
«Мнимости в геометрии»
5
Не обязательно место в пространстве: скорее состояние
6
Подробнее – у Я.С. Друскина в «Рассуждении о соответствии».
7
На несопоставимость факта, который я называю неабсолютным, с абсолютным фактом и, следовательно, на бессмысленность понятия соответствия между ними обратил внимание Я.С. Друскин.
8
На присоединение «я» ко всем другим представлениям – воспоминаниям, теориям – указал И. Кант.
9
Я не утверждаю, что сила сопротивления Богу зависит лишь от степени греха. Но на этом моём языке нельзя говорить о её зависимости от чего-либо другого. Возможно, существуют и другие её факторы, которых я не могу высказать.
10
Могло ли сохраниться свидетельство об исчезновении небесных светил благодаря передаче уцелевшими иудеями? Они могли передать его следующему поколению иудеев или представителям других народов. Но как эти представители, так и рассеянные иудеи входили уже в другие общественные организмы, строящие свои объективные факты, в том числе свои небесные светила. Не должны ли были члены другого общества, видящие светила на своих местах, воспринимать рассказы об их исчезновении как описание массовой иллюзии, которому не стоит придавать значения?