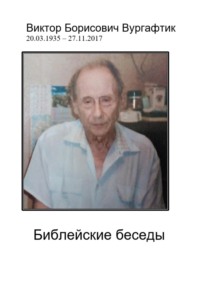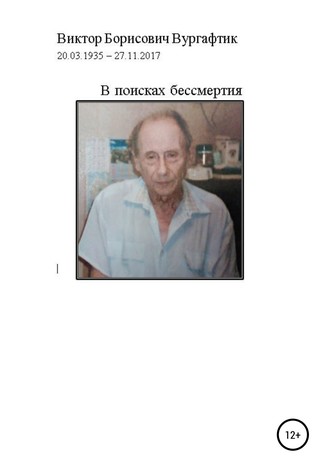 полная версия
полная версияВ поисках бессмертия
Что такое степень, в которой человек обращается к другому человеку, и степень, в которой человек имеет во внимании другого человека? Обращаться значит открываться, а иметь во внимании значит вникать. Таким образом, чем больше один человек открывается другому, тем в большей степени он обращается к нему, и чем больше один человек вникает в другого , тем в большей степени он имеет его во внимании. Но человек, сохраняющий свои убеждения – какими бы они ни были,– открываясь другому человеку, не в состоянии открыться ему ни в чём, кроме этих убеждений и того, что в них вписано и вписывается сейчас: всё, лежащее в нём глубже убеждений, он высказывает на их языке, т.е. проецирует на их плоскость, заменяет представлениями, которые вписывает в них. Если он исчерпывающе открывается в своих убеждениях и всём том, что в них вписано и вписывается сейчас, он обращается к другому человеку в наибольшей доступной ему степени. Но положим, он хочет открыться этому человеку полностью. Тогда ему нужно потерять свои убеждения – внешне и внутренно умолкнуть. Потеря убеждений, умолкание есть смягчение сердца, даруемое Богом. Если в ответ на желание полностью открыться человек получает от Бога смягчение сердца и умолкает, то полностью и открывается, т.е. степень его обращения абсолютна.
Аналогично, человек, вникающий в другого человека и не теряющий своих убеждений, не в состоянии вникнуть в нём ни во что, кроме его высказывания, максимально же вникнуть в это высказывание значит вписать его в свои убеждения или увидеть, что это невозможно. Если он вписывает его в свои убеждения, оно получает соответствующий им смысл, если же видит, что это невозможно, оно для него бессмысленно. Этот смысл или эта бессмыслица и является его представлением о человеке, в которого он вникает. В обоих случаях он имеет его во внимании в наибольшей степени, какая ему доступна. Если же он хочет вникнуть в него полностью и в ответ на это желание получает от Бога смягчение сердца, т.е. теряет убеждения, то полностью и вникает в него. Тогда степень, в которой он имеет его во внимании, абсолютна.
Один человек может обращаться к другому или иметь его во внимании и в отрицательной степени. Если обращаться положительно значит открываться, то обращаться отрицательно значит закрываться Человек, совершающий высказывание в присутствии другого человека, к которому оно не обращено положительно, может стараться скрыть от него смысл высказывания, тогда обращается к нему отрицательно – в той степени, в какой старается скрыть этот смысл. Как видно из сказанного ранее, иметь во внимании положительно значит вникать, а вникать значит стараться вписать высказывание другого человека в свои убеждения, или, что то же, стараться это высказывание понять. Тогда иметь во внимании отрицательно значит стараться высказывание другого человека не понять. Цель, с которой один человек старается не понять высказывание другого, может быть различной; но, как бы то ни было, он имеет его во внимании в отрицательной степени, представляющей собою степень этого старания. И отрицательное обращение, и отрицательное внимание тоже, мне кажется, есть направленность человека на других людей, делающая его вполне реальным.
Положим теперь, что человек, взятый в акте своего обряда, хочет полностью открыться кому-либо через свои обрядовые высказывания или полностью вникнуть в кого-то через его высказывания, входящие в этот обряд. Если Бог отвечает ему на это смягчением сердца, его желание осуществляется: он обращается к некоторому человеку или имеет некоторого человека во внимании в абсолютной степени. В этом случае он в акте обряда теряет свои убеждения, т.е. умолкает (внешне и внутренно– при совершении высказывания или внутренно – при внимании к высказыванию и его разделении). Итак, его обряд прерывается молчанием: имеет начало, но не имеет конца, вместо конца у него молчание. Мне кажется, в этом молчании человек причастен Царству Божьему. Здесь он имеет реальность, подобную реальности Бога, и у него есть реальная – в этом же смысле – вера – независимо от того, вера ли тождественна его обряду, прерванному молчанием, подчинение людям или то и другое. Если у него в этом обряде есть подчинение людям, он теряет его, если же нет реальной веры – получает веру, имеющую реальность, которая подобна реальности Бога. Христианин ли он, иудей или иудео-христианин, в этом молчании он христианин: если человек хочет через свой совершающийся сейчас обряд полностью кому-либо открыться или в кого-либо вникнуть, и Бог дарит ему для этого смягчение сердца, обряд прерывается молчанием, в котором человек имеет эту полноту и причастен Царству Божьему.
Бог может смягчить сердце человека в его обряде и в том случае, если у него нет желания полностью открыться кому-либо или в кого-либо полностью вникнуть. Тогда обряд прерывается молчанием, где человек причастен Царству Божьему. Может быть, в Русской православной церкви это совершается чаще, чем среди такого же числа людей вне её. Наконец, Бог может даровать это и соборной группе.
Невысказываемый
Июнь – июль 1991г.
Я был субъектом. Но вот его не стало, и моим субъектом стал Невысказываемый, т.е. я оказался Его предикатом. Однако вновь появился я как субъект, находящийся вне Его. Тогда я стал жить двойной жизнью – как предикат Невысказываемого и как внешний по отношению к Нему субъект. Бывало, что я как субъект соединялся с собою как предикатом, образуя с ним субъект внутри Невысказываемого. Моя раздвоенность исчезала, я был только этим субъектом. Но он расщеплялся снова на предикат Невысказываемого и субъект вне Его. А теперь уже нельзя сказать, что Невысказываемый имеет меня в качестве предиката, хотя и нельзя сказать, что не имеет. Остаётся лишь то, что я внешниий по отношению к Нему субъект. Поэтому нельзя сказать, что для меня в нынешнем моём положении возможно или невозможно стать субъектом, внутренним по отношению к Невысказываемому: ведь моё соединение с собою как Его предикатом и есть образование меня как субъекта внутри Него.
Итак, я пытаюсь высказать вехи моей жизни посредством шести терминов: Невысказываемый, я, субъект, предикат, внутри, вне. При этом в термин «вне» я не включаю внешнее прикасание, о котором говорит Я.С.Друскин. Могу ли я что-нибудь сказать о Невысказываемом ? Строго говоря, нет; я не могу даже сказать, что в различных моих вехах Он один и тот же или что Он не один и тот же. В сущности, я не могу приписывать Ему как предикат не только себя, но и чтобы то ни было, говорить о моём пребывании внутри и ли вне Его и даже о том, что Он находится в каком-то отношении к чему-то. Высказывая вехи моей жизни, я, возможно, высказываю лишь моё теперешнее состояние, которое Я.С.Друскин называл сейчас моей души.
Чувствую ли я теперь Невысказываемого ? Но я как субъект нахожусь вне Его и не могу Его чувствовать. Поэтому я чувствую Его в том и только в том случае, если являюсь Его предикатом. Однако этого нельзя ни утверждать, ни отрицать. Значит, я не могу сказать, что чувствую Невысказываемого, и не могу сказать, что не чувствую Его.
Если у Него есть желания относительно меня, могу ли я их понять? Но я могу понимать лишь при условии, если являюсь субъектом, и лишь то, что внутри меня. Так как я – субъект, внешний по отношению к Невысказываемому, то понимаю Его в том и только в том случае, если являюсь Его предикатом, т.е. имею Его в себе. Но этого опять-таки нельзя ни утверждать, ни отрицать. Таким образом, нельзя сказать ни того, что я могу понимать Его желания относительно меня, ни того, что я не могу их понимать.
Себя как субъект я вижу частью упорядоченного мира, или, по выражению Друскина, вполне упорядоченного космоса. Но для Невысказываемого этот космос не существует – я видел это, будучи только Его предикатом; точнее, видел Он, а я, как, возможно, сказал бы Друскин, был в Его взгляде. Ведь у предиката не может быть видения, оно может быть только у субъекта, предикат которого тогда как бы участвует в нём. Участие во взгляде Невысказываемого показало мне также, что для Него нет никакого космического порядка в Нём Самом.
Если бы я был лишь субъектом, находящимся внутри Невысказываемого, то, поскольку этот космос для Него не существует, он не существовал бы для меня. Когда я бывал этим субъектом, я видел не космос, т.е. не упорядоченный мир, а мир, всецело подчинённый Богу, являющийся лишь Его орудием. Значит, я не стану внутренним субъектом, если не утрачу этот космос вместе с собою как его частью. Как же мне утратить его? Прежде это совершалось через внутреннее принятие того, что лишено всякого основания: тем самым я оставлял логику, а с нею – упорядоченный мир. Если и теперь его утрата должна происходить таким же образом, то что лишённое оснований мне следует внутренно принять ?
Благодать, тождественная служению
Декабрь 1991 г.
Каждое одностороннее синтетическое тождество
А есть А, тождественное В,
но само В не тождественно А,
с моей точки зрения, высказывает то, что истинно существует субъект А, который в откровении людям имеет предикат В, но они в силу своего греха воспринимают В как самостоятельный субъект, т.е. субъект, не тождественный А; он назван самим В. Таким образом, само В – это неверно воспринятое В, значит, и тождественно В, и отлично от него. В истинном смысле само В не существует. Если человека, взгляд которого направлен на само В, Бог освобождает от греха, этот человек уже не воспринимает самого В, но непосредственно видит А, тождественное В, т.е. имеющее его как предикат. Если же он остаётся в грехе, А является ему через В лишь при условии веры, что этому В тождественно А.
Я.С.Друскин высказывает одностороннее синтетическое тождество, в котором А – Бог, а В – человек Иисус. Однако люди представляют себе человека Иисуса как самостоятельный субъект, т.е. как Самого человека Иисуса; до Его смерти лишь Петру, Иакову и Иоанну было дано увидеть Его как предикат Бога – когда Он "преобразился перед ними"/Мат.17:1-2/. Во время же Его прощальной беседы с учениками, может быть, все они уверовали в тождество Ему Бога, когда Он сказал: "столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп ? видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: "покажи нам Отца"? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне ? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам" /Иоан.14:9-11/. Если они уверовали в это тождество, в Иисусе им явился Бог: "видевший Меня видел Отца".
Я верю, что Православной церкви тождественна Богоматерь в Её откровении людям, хотя они и представляют себе Православную церковь как самостоятельный субъект. Таким образом, во-первых, я высказываю одностороннее синтетическое тождество, в котором А – Богоматерь, а В – Православная церковь, и, во-вторых, через эту церковь мне является Божья Матерь. Но, насколько я понимаю, мне дано было увидеть церковь как Её предикат. Богоматерь, тождественную церкви, я называю Богоматерью-церковью.
Вседейственность Бога я высказываю односторонним синтетическим тождеством, в котором В – какое-либо видимое людьми событие, А – Божий промысл о нём. Если для краткости говорить просто "событие" и "промысл", то из этого тождества вытекает, что промысл не может быть только промыслом, но непременно представляет собою и промысл, и событие. Каждый промысл открыт людям, которые, однако, не видят его и воспринимают событие не как его предикат, а как самостоятельный субъект. Поэтому обычно промысл является им в событии только в том случае, если они верят, что он тождествен ему. Но вне греха человек видит событие как предикат промысла, т.е. видит промысл, тождественный событию.
Если Бог, давая группе людей какой-либо Свой дар, Свою благодать, открывает им её, причём в их грехе, эта благодать есть и Божий промысл о совершении ими некоторого богослужения, обряда, или, как я буду говорить, служения. Таким образом,в откровении тем, кому она даётся,
благодать есть благодать, тождественная служению,
но само служение не тождественно благодати.
Если участники этого служения верят, что ему тождественна Божья благодать, они, во-первых, не думают, что совершение его зависит от них, и, во-вторых, воспринимают его как явление того Божьего дара, о котором они просят. Люди, воспринимающие своё служение как явление Божьего дара, но полагающие, что от них зависит его совершение, в душе подчиняют себе это действие Бога, т.е. относятся к своему служению как к магии. Божий дар исходит от Бога, а не от служащих. Говоря лишь об откровенной благодати, получаемой в грехе, можно сказать так: Бог даёт людям благодать и сообщает им об этом посредством их же служения.
Сохраняется ли у группы людей полученная в служении благодать? Иными словами, имеют ли они эту благодать и после служения, но уже как не откровенную? Однако иметь не откровенную благодать можно не во времени, а только в вечности, и, значит, нельзя сказать, что она имеется после служения или в какой-то момент или всегда. Так как служение, являющееся предикатом благодати, с одной стороны, и тождественно самому служению, и отлично от него, а, с другой, есть не что иное, как благодать, имеющая этот предикат, т.е. тождественная служению, то благодать, тождественная служению, и тождественна самому служению, и отлична от него. Но само служение совершается во времени. Тогда эта благодать как тождественная ему принадлежит времени, конкретно – времени его совершения. И вместе с тем как отличная от самого служения она принадлежит вечности. Благодать, тождественная служению, или, что то же, откровенная и получаемая в грехе, есть пересечение времени и вечности. Таким образом, только об этой благодати можно спросить -"когда?" Ответом будет: во время самого служения.
Для человека аналогией вечности, согласно Я.С.Друскину, является ноуменальное сейчас, которое, как он говорит, "отвечает скорее на вопрос: что? чем: когда?" /Добавление к Вѝдению невѝдения/. Мне кажется, для группы людей такую же роль играет благодать, тождественная служению. Её наименование тоже отвечает скорее на вопрос "что?", чем "когда?", и, как ноуменальное сейчас есть это сейчас, тождественное его обсуждению, которое само не тождественно ему, так же откровенная благодать, получаемая в грехе, есть эта благодать, тождественная служению, которое само не тождественно ей.
Из-за своего греха служáщие не видят благодати, тождественной их служению, и могут только верить в неё. Они лишь воспринимают само своё служение – определённую последовательность слов и действий, которая представляет собою воспринятое через грех служение как предикат благодати. В истинном своём виде служение как предикат благодати и есть благодать, тождественная служению,оно уже не может быть названо последовательностью слов и действий. Если Бог освобождает служáщих от греха,они видят даруемую им благодать, тождественную их служению, которое выглядит уже не как обряд. Тогда они находятся только в вечности.
Итак, откровенная благодать, получаемая людьми в грехе, всегда сопряжена с самим их служением. Но я не говорю, что само служение всегда сопряжено с благодатью. Если есть безблагодатные служения, о них можно сказать лишь вторую часть одностороннего синтетического тождества: само служение не тождественно благодати. В этом случае промысл не является также благодатью. Если же Бог дарит группе людей в их грехе откровенную благодать, они, по-видимому, созерцают её ещё до того, как принимают, причём ещё не совершаемое служение, являющееся её предикатом, они созерцают из-за своего греха как само служение, определённую последовательность слов и действий. И они чувствуют, что это предстоящее им служение назначается не ими.
Само наше служение Чаши является воспринимаемым через грех нашим служением, которому тождественна благодать приобщения к Богоматери – церкви. Когда мы совершаем само служение Чаши, Бог приобщает нас к Богоматери-церкви, хотя из-за своего греха мы не видим этого и только воспринимаем само наше служение. Я не хочу этим сказать, что мы совершаем его для того, чтобы Бог приобщил нас к Богоматери-церкви. Наоборот, Бог приобщает нас к Богоматери-церкви, и это приобщение есть также Его промысл о совершении нами служения Чаши, посредством которого Он сообщает нам о Своём даре.
Я думаю, каждое служение /говорю о нём самом/, включающее в себя само служение Чаши, совершается нами в состоянии, в котором Богоматерь- церковь, имеет нас в Себе. Она имеет нас как Свои предикаты и, таким образом, соединяет Собою. Но вместе с тем мы грешники, т.е. находимся вне Её, представляем собою самостоятельные субъекты. В этом служении у каждого из нас – раздвоенность: Богоматерь-церковь имеет меня в качестве Своего предиката, на котором нет греха, и одновременно я – субъект, который несёт грех. Эта раздвоенность была бы преодолена, если бы мы как субъекты соединились с собою как предикатами Богоматери-церкви, вошли внутрь Неё. Тогда мы стали бы субъектами внутри Неё, членами истинной Церкви.
В каждом нашем служении, которое содержит служение Чаши, Богоматерь-церковь, т.е. Божья Матерь, имеющая как предикат Православную церковь, соединяет нас Собою не только друг с другом, но и с Православной церковью. Говоря здесь о Православной церкви, я имею в виду и предикат Божьей Матери, который, как и всякий предикат Небесного субъекта, нельзя назвать ни сложным, ни простым, и самостоятельный субъект – саму Православную церковь, хотя и сложную, но являющуюся органическим целым. Итак, Божья Матерь соединяет Собою каждого из нас с каждым и с Православной церковью. Но тогда никто из нас не может отделять себя от Православной церкви и вместе с тем не может причислять себя к ней.
Построение космоса
Июнь – август 1995 г.
Видя, что реальные факты слишком сложны для познания, наука отождествляет их с более или менее простыми идеальными фактами, построенными ею самой, которые она и познаёт. Это отождествление основано на её вере в близость идеальных фактов к соответствующим реальным. Так, статика отождествляет свои объекты с абсолютно твёрдыми телами, теория упругости – с абсолютно упругими телами, теория разрежённых газов – с идеальными газами, кинематика во многих случаях – с равномерным или равнопеременным движением материальной точки; динамика во многих случаях отождествляет Землю с инерциальным телом отсчёта.
Идеальный факт строится, или определяется посредством некоторых высказываний и поэтому вполне им удовлетворяет. Так как реальный факт отождествляется с ним, считается, что он тоже удовлетворяет этим высказываниям, которые поэтому называются его основными законами /иногда, правда, отмечают, что он удовлетворяет им приблизительно/. Таким образом, реальный факт кажется подчинённым тем или иным законам только потому, что он отождествляется с идеальным фактом, построенным соответственно этим законам. Например, абсолютно упругое тело определяется в теории упругости как тело, удовлетворяющее закону Гука, идеальный газ в теории разрежённых газов – как тело, удовлетворяющее закону Клапейрона – Менделеева, инерциальное тело отсчёта в динамике – как тело, относительно которого выполняется Первый закон Ньютона. И если верят в близость данного реального факта к абсолютно упругому телу, говорят, что он подчиняется закону Гука, если верят в его близость к идеальному газу,– что он подчиняется закону Клапейрона – Менделеева, если же верят в его близость к инерциальному телу отсчёта,– что относительно него справедлив Первый закон Ньютона.
Но, если реальные факты сложны для научного познания, они сложны и для всякого познания, в котором являются объектами,т.е.отделены от познающего субъекта; иначе говоря, реальные факты сами по себе, взятые как объекты, непознаваемы. И если наука вынуждена заменять их построенными ею идеальными фактами, то ясно, что эту замену производит субъект-объектное познание вообще: посредством некоторых высказываний строит идеальный факт и отождествляет с ним познаваемый реальный, веря в его близость к нему. В результате познающим кажется, что реальный факт удовлетворяет этим высказываниям, т.е. в какой-то мере познан. Отличие ненаучного субъект-объектного познания от научного только в следующем: здесь мы не отдаём себе отчёта в том, что высказываниями о реальном факте строим другой, идеальный факт, к которому, как мы верим, он близок и потому может быть с ним отождествлён, а, следовательно, удовлетворяет этим высказываниям. В ненаучном познании мы непосредственно относим их к реальному факту.
Если мы созерцаем /воспринимаем, вспоминаем, воображаем/ нечто как объект, мы знаем о нём по крайней мере то, что это объект – нечто, от нас отделённое. Мы можем знать о нём также и другое; если, например, мы его созерцаем ещё как сосну, то знаем также, что это сосна. Во всяком случае, о том, что мы созерцаем как объект, мы имеем некоторое познание. Но любое наше субъект-объектное познание состоит в том, что мы строим посредством высказываний идеальный факт, с которым отождествляем реальный, в результате чего нам кажется, что он удовлетворяет этим высказываниям. В действительности им удовлетворяет лишь идеальный факт, который ими и построен, мы имеем познание только о нём. Поэтому то, что мы созерцаем как объект, о чём, следовательно, имеем познание, есть идеальный факт; он построен посредством высказываний типа "это от меня отделено и является сосной" или "это от меня отделено и является планетой, движущейся вокруг Солнца по Первому и Второму законам Кеплера" или, в предельном случае, "это от меня отделено". Не совершая никакого высказывания, мы ничего не можем созерцать, в частности, видеть как объект, любое видение объекта предполагает высказывание, хотя часто мы не обращаем на это внимания.
Итак, все созерцаемые объекты – это идеальные факты, построенные нашими высказываниями. Наука знает, что идеальные факты, которые она строит,– абсолютно твёрдые тела, идеальные газы, равномерные движения, инерциальные тела отсчёта и пр. – не существуют. Но это означает, что не существует никакие идеальные факты, так как ненаучное познание по существу не отличается от научного. В то время как реальные факты, созданные Словом Бога, существуют действительно, идеальные факты, созданные нашим словом, не имеют действительного существования. Если, таким образом, говорить о действительном существовании, то созерцаемые нами объекты, в частности, весь созерцаемый мир как объект, не существует. Но мы отождествляем идеальные факты с реальными, благодаря чему эти идеальные акты, т.е. объекты, кажутся нам существующими. Итак, отождествление реального и идеального актов приводит к тому, что реальный факт представляется нам познаваемым, а идеальный – существующим, т.е. они оказывается одним фактом, который и существует, и познаваем; это и есть объект.
Откуда вера в близость реальных фактов к соответствующим идеальным, лежащая в основе того отождествления? Мы получим ответ на этот вопрос, если снова обратимся к научному познанию. Там она возникает оттого, что наши ощущения или показания приборов, вызываемые реальным фактом, близки к тем, которые вызывая бы построенный нами идеальный факт, если бы он существовал. Пусть, например, нечто, предполагаемое нами в данном сосуде, при тех или иных показаниях приборов, измеряющих температуру и объём, вызывает почти такое же показание прибора, измеряющего давление, как если бы в этом сосуде находился определяемый законом Клапейрона – Менделеева, но действительно существующий идеальный газ. Тогда мы верим в то, что реальный факт, вызывающий эти показания, близок к идеальному газу. Аналогично, у нас есть построенный некоторыми описаниями зрительно-обонятельно-осязательный образ сосны; если теперь мы воспринимаем нечто, вызывающее у нас приблизительно такие же зрительное, обонятельное и осязательное ощущения, какие вызывал бы этот образ, если бы он имел действительное существование,то мы верим в близость этого нечто к сосне, даже в его совпадение с нею, которая, однако, есть лишь имеющийся у нас этот образ, идеальный факт. Не имея заранее образа сосны, мы никак не могли бы узнать сосну в том, что мы воспринимаем.
Возьмём, однако, два построенных в науке идеальных факта, которые, если бы они действительно существовали, вызывали бы приблизительно такие же ощущения или показания приборов, какие мы получаем в некотором опыте. Если эти идеальные акты близки к реальному, вызывающему данные ощущения или показания приборов, то они близки друг к другу. Но это не так. Например, если бы действительно существовали идеальные факты, построенные системой Птолемея и системой Коперника, каждый из них вызывал бы у нас такие же зрительные ощущения, какие мы имеем в наших астрономических наблюдениях. Однако эти два идеальных факта друг от друга очень далеки. Если мы скажем, что систему Коперника следует рассматривать в контексте механики Ньютона, с которой согласуется неизмеримо больше ощущений и показаний приборов, чем с системой Птолемея, то ведь они согласуются и с общей теорией относительности, однако построенный ею идеальный факт далёк от идеального факта, построенного механикой Ньютона: второй из них – взаимодействующие материальные точки в пустоте, а первый – гравитационное поле с материальными точками.