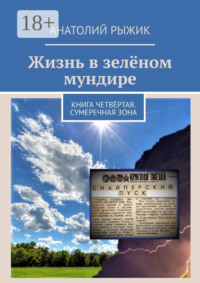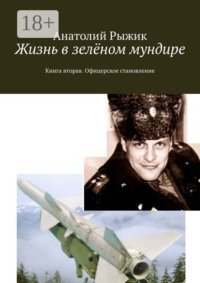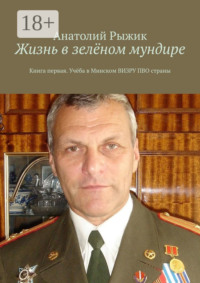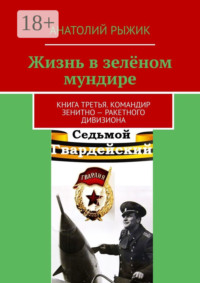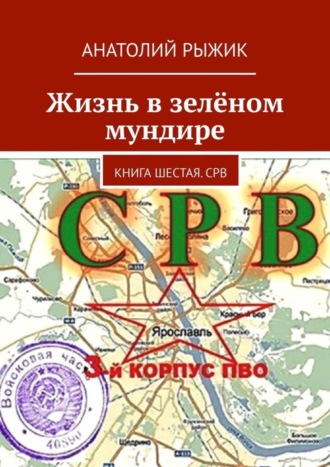
Полная версия
Жизнь в зелёном мундире. Книга шестая. СРВ
Несколько раз даже получалось так: вернусь домой, а через неделю снова вылет на «Камбалу». По прилёту на полигон в аэропорту встречает меня и сопровождающую группу отдела ЗРВ УАЗик стреляющего полка и везёт нас на стрельбовые площадки.
Размещался я не в палатках и не штабных машинах, а в гостиницах полигона, предназначенных «для белых людей». Конечно, это не пятизвёздочные отели, но наличие сантехнических удобств даже в некоторых номерах кондиционера было шиком для тех мест
Все эти подвижки к лучшему быту не радовали – полигон есть полигон: в случае неудачных стрельб спрос был и с меня. А, ввиду большого количества стрельб, повышалась вероятность появления неудачных. С этим мне повезло: за время моих поездок на полигон ни разу оценки полков не опускалась ниже чем «хорошо». Заслуга в этом не моя.
Стрельбы велись в основном ЗРК большой дальности С-200 с ракетами оснащёнными головками самонаведения и высокой эффективностью поражения.

Стрельбы велись в основном ЗРК большой дальности С-200
Надо отдать должное и хорошей подготовке полков к стрельбам.
Так получилось, что я дважды ездил выполнять стрельбы с Вологодским полком, которым командовал мой однокашник по учёбе в Минске – Урузмаг Огоев. Эти выезды нравились мне больше всего, так как Урузмаг умел принимать гостей даже в условиях пустыни.
Застолья начинались с самого приезда на полигон, но в преддверии стрельб они делались скромными и малочисленными. Это были скорее затянувшиеся разговоры за столом и проходили они без алкоголя – в воздухе звенело напряжение.
После того, как полк выполнял отлично боевую задачу, границ в праздновании победы не просматривалось. Отличная оценка в Вологодском полку встречалась как величайшее событие и сопровождалась протяжённостью празднования, нагрузками на печень и множественными тостами. Удачно выполненным стрельбам офицеры радовались искренне, понимая, что это результат их кропотливой работы за два года.
Самое важное: обе стрельбы Вологодского полка были проведены на хорошем уровне, и в обоих случаях была получена оценка «отлично».
В одну из таких поездок я по дальней связи доложил Комкору генералу Майорову, что Вологодский полк выполнил стрельбу и уничтожил все мишени.
Сообщил о том, что скорее всего результат будет отличным, но это будет ясно только после подсчёта инструкторами полигона всех составляющих оценок и подведения итогов. Когда это всё будет выполнено – последует погрузка полка в эшелон.
Генерал Майоров поздравил с предварительным результатом: ведь когда сбиты все крылатые мишени оценка ниже чем «хорошо» не бывает. Затем он спросил:
– «А когда полигоном будет проводиться разбор стрельбы?».
– «Через четыре дня, товарищ генерал!» – ответил я.
Комкор задумался, а потом произнёс:
– «Толя (он так меня всегда называл в неофициальной обстановке с тех пор как я начал выполнять обязанности начальника ЗРВ), пожалуй, завтра я к Вам вылечу на самолёте. Что-то устал, замучила текучка.
Раз всё отлично и нет проблем, то приеду как бы на подведение итогов. С собой никого из корпуса брать не буду – прилечу один. Пару дней отдохну у Вас. Отпразднуем победу вместе. Встреть меня в аэропорту».
Я, конечно, встретил его на аэродроме «Камбала», привёз и разместил в гостинице полигона. Ближе к вечеру, когда Валентин Николаевич отдохнул после перелета. заехал за ним, и мы выехали в боевые порядки полка.
Мы просидели в разговорах всю ночь – благо командир полка Урузмаг Огоев обеспечил накрытие столов с широким размахом.

Сары-Шаган 1986 год. Слева направо: автор книги и.о. начальника ЗРВ 3 корпуса ПВО подполковник Рыжик Анатолий Игоревич, командир 3 корпуса ПВО генерал Майоров Валентин Николаевич, командир Вологодского полка подполковник Огоев Урузмаг Созрыкоевич
Через пять дней на полигоне состоялось подведение итогов стрельб, на которых Вологодскому полку была выставлена отличная оценка.
Надо отметить что в обычной обстановке командир корпуса генерал Майоров был очень прост и его пребывание на полигоне нас не тяготило. Он даже требовал, чтобы я и Урузмаг обращались к нему в неофициальной обстановке по имени отчеству – Валентин Николаевич.
Подводя итоги своего посещения, генерал сказал, что ему всё понравилось, что отдохнул хорошо: почаще бы так стреляли и… так отмечали победу.

Боевой расчёт Вологодского полка
После подведения итогов из Приозёрска я вместе с генералом Майоровым вылетел самолетом в Ярославль. А Вологодский полк ещё оставался на полигоне, ожидая подачи эшелона. И только через пять суток Огоев медленно поплёлся вместе со своим эшелоном в Вологду.
Как-то в одну из очередных командировок я возвращался с группой офицеров домой (в Ярославль) после проверки состояния дел в Верхневольском полку. В купе был накрыт стол – мы ужинали. Ничего особенного – обычный дорожный ужин в командировочном варианте – что Бог послал.
Четвёртое место в нашем купе занимала пожилая женщина. Она сидела с отсутствующим взглядом и постоянно плакала – слезы не сходили с её глаз. Мы, желая как-то ей помочь (не вредя расспросами типа «что случилось»), предложили поужинать с нами. Она отказалась, сказав, что ей не до еды, что у сына выскочили на голове какие-то шишки и врачи определили – рак крови.
Я насторожился: у меня на затылке тоже появился какой-то желвак, но времени сходить к врачу не находилось. Я попросил женщину пощупать мой затылок:
– «Посмотрите, надеюсь шишки не такие?».
Она внимательно потрогала мой желвак, грустно посмотрела мне в глаза и произнесла:
– «Вот именно такие, мил человек!».
После её слов по моей спине мгновенно потекли ручьи пота, а лоб покрылся испариной.
Теперь в нашем купе не могли пить и есть двое….
На следующий день после приезда я был в военном госпитале, в отделении поликлиники у врача – хирурга.
Нашлось и время, и желание.
Тот, недолго думая, вынес мне вердикт – фурункул, надо оперировать.
Я засомневался в правильности диагноза, говоря, что фурункулы у меня бывали, они не такие, да и срок существования «шишки» более трех месяцев. Фурункул столько бы не торчал на затылке, а давно бы вскрылся или рассосался.
Хирург (полковник – старпер отслуживший срок в армии) настаивал на своём решении:
– «Ложись на стол, работы на пять минут…»
Операций я не боялся, да и давно пора было разобраться со злоклятым желваком, дабы не бросало больше в пот при думах о его возможных причинах. Поэтому я, совершенно не задумываясь о последствиях, которые могут возникнуть согласился. Фурункул вырезать не проблема, проблема в том, что я забыл анекдот.
«Говорят, что самая опасная в военных медучреждениях это операция на гланды, потому что всё оперируется в армии через задницу…»
Меня уложили животом на операционный стол, и эскулап приступил к операции. Что-то у врача не заладилось с самого начала. Наркоз был сделан местный и посему я мог спокойно анализировать происходящее, но только сначала…
Какие там обещанных эскулапом пять минут!
Прошло полчаса…
Картина операции к этому моменту выглядела так. Я лежал животом в небольшой луже крови, которая стекала тонкими струйками, щекоча мне шею. Хирург резал, промокал и снова резал. Неожиданно он закричал медсестре:
– «Беги в стационар (он и поликлиника в одном здании), срочно зови хирургов на консилиум».
Я заволновался….
Достаточно быстро прибежали два хирурга из стационара, пошептались и пришли к выводу: надо зашивать сделанный разрез.
На мой вопрос что случилось, вразумительных ответов никто не дал.
Сказали только то, что лечение продолжат в стационаре (я не собирался ложиться в госпиталь, но понял раз что-то пошло не так, значит надо как говориться «доводить до ума»). После того как зашили затылок меня увезли в стационар.
На следующее утро комкор генерал Майоров прислал ко мне в госпиталь целую делегацию. Ей была поставлена задача разобраться, что случилось и надолго ли попал в госпиталь – через пять дней я должен был вылететь в Сары-Шаган помощником руководителя стрельб. Боевую задачу выполняла Череповецкая бригада и на меня уже заказан билет на самолёт.
После «наезда» корпусной делегации и требования комкора, начальник госпиталя пообещал меня быстро поставить на ноги.
Слово он своё сдержал.
А поставили очень просто – трое суток я провалялся в палате на каких-то таблетках и всё лечение! Так я мог себя «поставить на ноги» и сам, даже на следующий день.
Мне никто и не смог пояснить (очевидно, не хотели говорить правду, но я и сам уже начал догадываться) что за «операция» мне была сделана и каков её результат. Я понимал, что этим дело не закончится, так как толковые хирурги сказали, что эскулап только разрезал опухоль.
Итак, через трое суток меня выписали, а через четверо суток я уже летел самолётом в Приозёрск.
Мой вид вызывал у людей, находящихся в самолёте, у кого удивление, у кого соболезнование: затылок был частично выбрит, заклеен толстым слоем ваты, поверх этого пластырем и перебинтован. Фуражка на голове не умещалась, поэтому при передвижении я держал её в руках.
В самолёте сзади сидящий малыш спросил у своей мамы:
– «Что случилось с дядей? Он упал и ударился или летит с войны?»
Я спинным мозгом чувствовал недоумение сидящих сзади, а не только одного ребёнка.
«На всякий случай» летел на полигон я не один: Комкор официально назначил помощником руководителя стрельбы своего первого заместителя – полковника Горба Владимира Николаевича с задачей представлять руководство корпуса на полигоне.
С моей перебинтованной головой и выстриженными клоками волос нельзя было ходить по инстанциям и представляться руководству полигона. Как не крути, а встречают по одёжке. Ведь всем не объяснить, что не по пьяни вся эта «красота» получилась, а просто эскулап бестолковым оказался.
К тому же рана сильно кровоточила и мне периодически надо было менять повязку.
Это было поручено майору – начальнику медсанчасти из состава Череповецкой бригады.
Основные решения по выполнению как учебных, так и боевых стрельб должен был формировать я и докладывать заместителю командира корпуса.
Генерал Майоров определил ему функцию чисто «представительства», сказав всё остальное должен делать Рыжик.
Заместитель командира корпуса Горб Владимир Николаевич (фамилии бывают и хуже) стал полковником в тридцать два года. Он был летчиком-ассом, который в своё время выполнял на истребителе лётные задания на предельно-малых высотах – ниже 50 метров. Достигнув тридцати восьми лет отроду, он перестал летать.
Должность у него была генеральская. Владимир Николаевич был прост в обращении, без малейшего намёка на самовыпячивание. В нём не сквозило ни малейшей тени превосходства несмотря на заслуги: летчик-снайпер, два ордена….
С ним было легко решать задачи, стоящие перед нами на полигоне. С самого начала нашего взаимодействия он сказал:
– «Анатолий Игоревич! Я мало смыслю в зенитно-ракетных войсках и мешать не собираюсь. Вы руководите всеми делами, а если надо будет где-то вмешаться мне – говорите».
Так мы и работали.
Часть 2
Нет сильнее терзающей горести,
Жарче муки и боли острей,
Чем огонь угрызения совести;
И ничто не проходит быстрей.
«Туристы»
В конце стрельб, когда бригада выполнила задачу, и оставалось время до проведения полигоном разбора учений, Владимир Николаевич сказал мне:
– «В Алма-Ате живет мой самый первый авиационный, войсковой преподаватель: летчик-инструктор который учил меня летать на МИГах.
Великолепный человек, с тяжёлой судьбой. Он чрезмерно любил авиацию, любил так, что остался без семьи».
Мне было любопытно, но я не стал задавать уточняющих вопросов о причинах потери летчиком семьи, а Владимир Николаевич эту тему не стал развивать, продолжив:
– «Достаточно давно он уволился из армии и остался жить в Алма-Ате, получив хорошую квартиру. Я его не видел сто лет, поэтому хочу к нему съездить. Вот что я думаю: давайте поедем завтра в Алма-Ату на УАЗике комбрига Череповецкой бригады. Побудем там пару дней и обратно. Вы хотите прогуляться по Алма-Ате и посетить Медео?».
Я был шокирован: вот это да!
Я понимал, что для лётчика 500 километров не крюк, но как Владимир Николаевич собирается добраться из Сары-Шагана до Алма-Аты на УАЗике, не мог себе даже представить.

Для лётчика 500 километров не крюк
Дорогу мы не знали, по степи никаких указателей не стоит, и дорога как таковая отсутствует – кругом ровное поле. Тут и заблудиться не проблема, а спросить не у кого.
Невольно пришёл в голову старый анекдот, который я рассказал Владимиру Николаевичу.
Заблудился мужик в лесу. Идет по лесу и орет во все горло:
– «Ау- ау – ау – ау – ау!»
Вываливается ему на встречу из кустов медведь и спрашивает:
– «Чего орешь?»
– «Да вот заблудился, думаю, может кто услышит…»
– «Ну, я услышал, легче стало?».
В ответ на мой анекдот полковник Горб сказал:
– «Смешно, очень. Только если Вы хотите побывать на Медео, то боятся медведя не надо».
Конечно я хотел. Однако попытался в последний раз обратить внимание полковника на сложность предпринимаемого мероприятия:
– «Но как ехать, не зная дороги. Темнеет рано, только если по карте…, но я в навигации слаб. И ещё важный момент: в степи кругом дорога, но нет заправок. Где взять бензин?».
Но и эту мою попытку остановить выезд рассеял Владимир Николаевич. В успехе поездки у него не возникало никаких сомнений:
– «Задачу комбригу по подготовке машины я поставлю. Навигацию до первого крупного населённого пункта я беру на себя, а дальше разберёмся.
Всего-то нам проехать от стрельбовых площадок полигона до Алма-Аты каких-нибудь пятисот километров. Ерунда! Вас мучают сомнения как будто мы собрались в Америку!».
Я ещё раз убедился в справедливости народной мудрости. Если перефразировать в моей интерпретации, то она зазвучит так: рождённый ходить даже в мыслях перемещаться как лётчик не в состоянии.
Начали готовить выезд. Бензина с собой в дорогу на такой путь не наберешь, да и перегружать машину канистрами не хотелось. Кроме перегруза была ещё причина: в такую жару канистры с бензином нагреваются и парят, воняя – можно задохнуться.
Решение опять же нашёл Владимир Николаевич. Он приказал взять бензин… спиртом! То есть получить в Череповецкой бригаде тридцать литров спирта. (Этим он ужасно расстроил комбрига, даже сильнее чем предстоящим тысячекилометровым пробегом командирского УАЗа). И это вполне понятно – спирт командиром бригады планировался для использования в качестве международного эквивалента денег.
Замкомкора уверенно заявил:
– «Даже если он будет в машине от жары парить, то от этого не умрем. Будем менять его у встречных машин на бензин в соотношении один к пяти, а может быть и более».
– «А если не будет встречных?» неуверенно возразил я. Однако мой вопрос повис в раскалённом воздухе проигнорированным, без ответа, а вместо него:
– «Вы лучше Анатолий Игоревич не забудьте запастись у начальника тыла бригады сухим пайком на трое суток. На водителя и на нас двоих».
В Алма-Ату с нами попросился ехать ещё один человек – заместитель командира 6-й радиотехнической бригады полковник Петров. Он руководил действиями радиотехнических войск на стрельбах. У Петрова в Алма-Ате жили то ли родственники, то ли первая школьная любовь – слишком запутанно он объяснил причину своего желания ехать. Однако Владимира Николаевича, а тем более меня это не интересовало и согласие Петрову от заместителя комкора было дано.
Выехали только чуть начало светать. Дороги были накатаны – они как вены тянулись по всей степи и клубились пылью даже от перемещения сусликов. Стояла невыносимая жара.
Вскоре после начала пути мы были покрыты сантиметровым слоем пыли и выглядели бело-серыми альбиносами. Ехать было монотонно и совсем не интересно, к тому же, ехали молча – жевать пыль, набивающуюся во все открытые отверстия, совсем не хотелось. Как и предполагали – главное было не ошибиться в направлении движения – никаких указателей вдоль множества дорог не было (может в настоящее время что-то появилось, но тогда… тогда кроме Владимира Николаевича уверенности что едем правильно не было ни у кого).
Периодически полковник Горб смотрел на карту, затем на компас и дорогу. После этого давал необходимые команды водителю. Порой мне казалось, что он и в самом деле знает куда надо ехать. Я его спросил откуда знание навигации – он же не штурман.
– «Лётчик должен уметь добираться до места даже без самолёта» ответил Владимир Николаевич.
– «Это значит, когда собьют?» – неудачно спросил Петров. Но, замкомкора не обиделся:
– «В любых случаях».
Иногда нам встречались какие-то поселения, но очень мелкие – пять семь что-то типа сараев. В них мы кое-как корректировали направление движения, вернее, это делал заместитель командира корпуса.
В памяти от той дороги осталась только пыль, жара, и обмен спирта на бензин с очень редкими встречными машинами. Бензин выменивал я с водителем. Такое решение принял полковник Горб:
– «Анатолий Игоревич, у Вас перебинтована голова и такой вид, что любая встречная машина тормознёт» и пошутил:
– «Главное, чтобы от испуга водитель не развернулся…».
Кстати: в дороге мы при первой же возможности меняли спирт на бензин, так как встречные машины почти не попадались.
По этой причине, только пройдя три четверти, пути до Алма-Аты, мы смогли совершить первый спиртово-бензиновый обмен. Оказалось, для того чтобы добраться до места достаточно было выменять бензин всего у двух машин (НЗ запасных канистр мы не тратили)
Положительно то, что ни один из водителей не отказался делать обмен (по дороге в обе стороны).
Шофёры – казахи со мной не торговались, когда я предлагал им обмен один к пяти и сразу бросались со сливными приспособлениями к своим машинам. Это позволило подъехать к Алма-Ате с полными баками, так как заправочный объём УАЗика составляет 78 литров, а максимальный расход бензина на бездорожье до 20 литров на 100 км пути.
К ночи, в конце долгого пути начали появляться какие-то признаки приближающейся столицы Казахстана….
Въехали мы в Алма-Ату, когда уже стемнело, но улицы светились и на них было немало народа. Благодаря этому (навигаторов в то время не имелось, им являлся язык. Помните: язык до Киева доведёт?), дом сослуживца Владимира Николаевича нашли сравнительно быстро.
Встреча учителя и ученика была радостно-искренней, а так как бывший инструктор оказался в настоящее время холостяком, то без лишних слов и сдерживающих факторов привели себя в порядок и перешли к застолью.
Полковники Горб и Петров помылись в душе и были готовы сесть за стол, а мне ещё надо было сменить повязку на голове. Это могло затянуть процесс, поэтому Петров предложил почистить снаружи повязку одёжной щёткой (хорошо не сапожной). Выбора (и бинтов на смену) у меня не имелось…
Еды и деликатесов мы привезли с собой достаточно – должно хватить на пару дней (наш провиант в дорогу комплектовал щедрый начальник тыла Череповецкой бригады).
Спирта осталось очень много…
Бензина по нашим подсчётам в баках машины и в нескольких (всё же взятых с собой) канистрах должно было хватить на весь обратный путь и заезд на запланированную экскурсию в Медео.
Вследствие хорошей укомплектованности стола ограничений в радости общения боевых друзей (и примкнувших к ним меня с Петровым) не было.
Ближе к середине ночи в стены начали стучать возмущённые соседи. Владимир Николаевич и его учитель, сидя за столом в высотных, лётных шлемах (которые оказались дома у бывшего инструктора) не обращая внимания (а может, не слыша) горланили песни.
Я, было попытался призвать их к осторожности – как никак мы в Алма-Ате не совсем законно (вернее совсем не законно), но у лётчиков свои правила проведения праздников.
От меня просто отмахнулись…
Полковник Петров заснул в туалете при закрытых изнутри дверях, да так что было не достучаться. Это создало единственные неудобства в продолжении «праздника встречи».
Однако, банкет был прерван неожиданно в первые сутки и грозил серьёзными неприятностями, так как под утро к нам нагрянула вызванная соседями комендатура. Старший в группе подполковник, представившись через дверь, начал учить как мы должны себя вести. Вроде всё правильно, но не зная с кем имеет дело подполковник перешёл к угрозам.
Разъярённые лётчики незваных гостей в квартиру не пустили, поэтому офицерами комендатуры был арестован стоящий под домом череповецкий УАЗ, на котором мы добрались в Алма-Ату.
После убытия комендатуры заместитель командира корпуса держался спокойно, я и полковник Петров переживали, понимая уровень нависших над нами неприятностей.
Только к обеду мы пришли в нормальное (для здравомыслящих действий) состояние и, понимая все возможные последствия произошедшего, поехали на городском транспорте освобождать машину.
На нашу беду день был выходной – воскресение, руководство в комендатуре не находилось.
Получалось, что освободить машину и уехать нам по-тихому было практически невозможно!
Полковник Горб без (всякой боязни) позвонил коменданту Алма-Аты домой, но тот никак не мог сообразить, каким образом машина из Череповца оказалась в их городе. Сказал: ждите до понедельника и тогда он, выйдя на службу разберётся с происходящим.
А вот этого допустить было нельзя, так как наверняка всплыло бы то, что мы прибыли из Сары-Шагана с выполнения боевых стрельб. Можно не сомневаться – это чревато как минимум в масштабах войск ПВО.
Я и полковник Петров сникли.
Лично мне ситуация показалась безвыходной, патовой – скандала с серьёзными последствиями не избежать.
Однако, я совсем упустил из виду, то что лётчики народ дружный: полковник Горб и его инструктор начали искать «своих» в местном армейском руководстве. Тех, кто сможет оказать содействие. Совсем не скоро, но всё же это у них получилось.
Именно благодаря тому, что наш заместитель командира корпуса нашёл товарища в руководстве армии – главного штурмана авиации, нас отпустили с миром. Комендант гарнизона разрешил забрать машину. Это было нереальным спасением от ожидавшей нас инквизиции.
Я, не желая больше искать приключений на наши задницы, но в то же время, являясь подневольным, предложил немедленно выехать обратно на полигон.
Однако, Владимир Николаевич, совершенно не впечатлённый только что произошедшими неприятностями возразил:
– «Анатолий Игоревич! Я же Вам обещал съездить на Медео! Я не знаю, когда ещё это сможет у нас получиться. Поэтому не будем откладывать в долгий ящик, скучая от бездеятельности, а едем прямо сейчас. К тому же я обещал, а раз так, то слово надо держать. Думаю, что это тоже будет приятная поездка (?!). Наверняка там будет тоже интересно…».
Я не стал возражать по поводу «тоже интересно» содрогаясь от воспоминаний первой части нашего пребывания в Алма-Ате. Тем не менее, что правда – то правда: соскучиться в этой поездке было невозможно – это факт. Да и права на другое решение у меня не имелось. Оставалось только согласиться с желанием заместителя командира корпуса «сделать мне приятное».
С содроганием за возможные варианты дальнейших событий я влез в машину.
Дорога оказалась не дальней и даже интересной. Посмотреть на Алма-Ату и пригороды (даже через стекло УАЗ) было любопытно. Вскарабкавшись ревущей машиной на высокогорное Медео, мы увидели ледяную жемчужину – прекрасно оформленный стадион. Он производил особенное, мощное, даже фантастическое впечатление своим холодным блеском покрытия при жаре +30º у подножья гор.
Спортивный комплекс Медео построен в горном урочище Медео на высоте 1 690 метров около города Алма-Аты в Казахстане. Медео являлся самым высокогорным комплексом в мире для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового катка – 10 500 кв. м. Высокогорье и чистейшая вода для заливки льда способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте.

Спортивный комплекс Медео