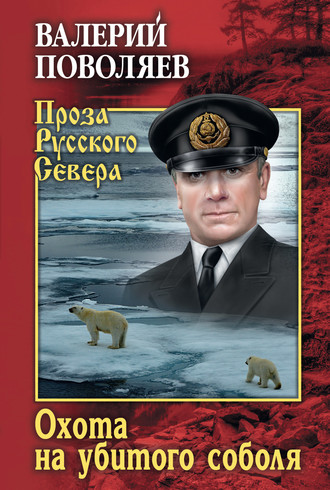
Полная версия
Охота на убитого соболя
– Так они ж временные, Ксан Ксаныч, – попробовал было возразить лентяй-штурман, – сегодня есть, завтра не будет.
– Спасатель – не торговое судно, штурман. Торговый пароход на полгода в Африканских морях скроется и ему наплевать на береговые изменения, а мы даже ворону, которая из-за собственного растяпства в песке лапами увязла, и ту обязаны на карту наносить. Ясно?
Вахтенный штурман состроил кислую мину и взялся за карандаш, Суханов кислую мину засек и подумал, что от такого штурмана надо будет освобождаться.
Кинули первую ракету на застрявшее судно. Ракетами они называли линеметы – на бедствующий пароход надо обязательно подать тонкую капроновую бечевку – линь, чтобы за линь зацепить трос и протянуть его к бедолагам, а потом уже тросом выводить их на воду. Ракета прошла между двумя мачтами, стукнулась о камень, оторвалась от линя и с тяжелым пугающим свистом пронеслась над домиками-времянками. Оттуда послышался грозный женский крик:
– Вы что из «катюш» садите? Прекратите сейчас же!
Суханов усмехнулся – шутка насчет «катюш» ему понравилась, с таким юмором люди и в тяжелый мороз без теплой одежды не пропадают, и он решил линемет отныне звать «катюшей», – сделал выговор боцману, стоявшему за линеметом.
Въехавший в наволок сухогруз к этому времени уже совсем обсох, вокруг него ходили люди в сапогах, переговаривались – начался сильный отлив, и все спасательные операции, пока отлив не кончится, проводить было бесполезно. Оставалось одно – ждать. Ждать, пока не подойдет вода прилива.
Тут среди плечистых дядьков появилась маленькая ладная женщина в красном плаще, бойкая, голосистая, проворная. Была она зеленоглаза – такие лешачьи ясные глаза может иметь только лесная жительница, и оказалось, точно: Ирина родилась на Валдае, жила среди вековых сосен, ловила рыбу в прозрачной зеленой воде, в Питере окончила институт и получила назначение сюда, на север, – нос был обметан аккуратными трогательными конопушинами, Суханов даже не подозревал, что такое вот седло из конопушин, надетое природой на нос и беззащитные лешачьи глаза, могут так сильно подействовать на человека.
После того наволока Суханов встретился с Ириной в Мурманске, женился на ней, но счастье было недолгим: Ирина все-таки – земной житель, хотя и имеет прямое отношение к морю. Море в ее душу не вошло, осталось где-то в стороне, любви к соленой воде в ней не было. В общем, ей, земному человеку, нужен был земной муж. Она потребовала, чтобы Суханов перевелся работать на берег – тем более, ему лестное предложение сделали – должность капитана порта, вместо старого, умершего, по прозвищу Тигра, но Суханов не мог жить и работать на берегу, где угодно мог – в вонючей луже плавать, в штормовом рассоле тонуть, зубами отгрызать приросшие к донному илу звезды, питаться немыми, без запаха и обычной цветовой нежности кувшинками, но лишь бы это была вода. Пришлось с Ириной разойтись.
– Ох, Суханов, Суханов, что мне делать – не знаю, – Ольга сжалась в комок, губы у нее обметало морщинами, уголки обиженно, как-то по-детски дрогнули, Суханов понял, что на душе у красивой, чуждо чувствующей себя в этом расхристанном шумном кафе Ольги – осень, сырые вязкие туманы приволокли с собою избыток влаги, пролился дождь, краски поблекли – холодная осенняя влага оказалась скорбной и ядовитой.
– Знаешь, что тебе делать, – тихим твердым голосом произнес Суханов, – хорошо знаешь. Одно тебе надо делать, Ольга, – выйти за меня замуж. Выйдешь – вместе мы тихо покатимся в старость. – Он увидел, что Ольга отрицательно качнула головой, предупредил следующее движение. – Все-то ты знаешь, Ольга. Гораздо лучше меня. Ты умная женщина, опасно умная…
– Не могу понять одного, – проговорила Ольга, – то ли я заблудилась на собственной дороге, то ли попала на чужую, но если это чужая дорога, то верно ли я иду по ней.
– Слушай саму себя – и все будет верно. Не отрывайся от реалий, не смотри на шикарных, прибывших из «плаванья налево» моряков, сидящих за соседним столом, и ты поймешь, какое счастье тебя ожидает, – он усмехнулся, – налево я не хожу, только направо! Работай над собой, думай, знай, что благородные мысли рождают благородные поступки, как милосердие рождает ответное милосердие, и так далее. Твори добро, и это добро воздастся тебе.
– Ты прямо библейским проповедником заделался, Суханов. На тебя молиться как на святого нужно.
– Молиться не надо, а вот ставку на меня делать, как на беговую лошадь, можно. Мы с тобой, Ольга, отпили по полному глотку кипятка, поняли, что это крутое варево. Ты была замужем, я был женат, реакция у нас естественная – дуем не только на воду, дуем на шампанское, ножом не только мясо режем, но и рыбу, хотя даже бичи талдычат: «Фи, маркиз, рыбу-то ножом!», а мы в рыбу все равно ножом лезем, мы даже куриные яйца, сваренные всмятку, и те с помощью ножа пытаемся съесть. Образованность свою хотим показать… Все усложняем, усложняем, усложняем! А чего усложнять-то, Ольга? Надо идти по пути упрощения. Все ясно ведь, как Божий день.
– Может быть, ясно, но только не все просто, Суханов.
– Надо держаться, Ольга, и принимать жизнь такою, какова она есть.
– Прописная истина.
– Мир стоит на прописных истинах. Увы, и истины – вечный материал – от употребления тускнеют.
– Легко поучать!
– Я не поучаю, я утешаю. Я прошу, я призываю тебя, Ольга, быть мудрой, великодушной, способной прощать все, кроме подлости. В этом долг женщин.
– В первую очередь мужчин, Суханов.
– Быть женщиной, Ольга, – это призвание: обихаживать дом, стирать белье, готовить мужу обеды, склочничать на кухне, давать детям подзатыльники, проверять уроки, выглядеть красивой и стараться, чтобы супруг тоже выглядел красивым, был всегда веселым, пахнул табаком, нравился чужим женщинам и умел остроумно излагать мысли.
– То самое, что женщины не прощают мужчинам.
– Все взаимосвязано. Женщине прощается глупость, но не прощается пошлость, мужчине прощается пошлость, но не прощается глупость. Быть мужчиной или быть женщиной – это, Ольга, профессия. Вторая профессия после профессии быть человеком. Третья профессия – уже то, что мы имеем в трудовой книжке.
– Слишком много теории.
К их столику снова приблизилась полная красивая девушка, пощелкала пальцами, глядя на Суханова. Суханов подумал, что она требует сигарету. Оказалось, нет.
– Вы так и не хотите познакомиться с московскими гуманоидами? – спросила девушка.
– Не хочу.
– Жаль, – девушка вторично пощелкала пальцами. – Тогда сигарету, капитан.
Все-таки, выходит, сигарету…
– Пожалуйста! – Суханов сделал резкое движение, и две сигареты стремительно вылетели из пачки. Прежде чем они нырнули обратно, Суханов зажал их пальцами.
– Ловко, – восхитилась девушка, взяла обе сигареты и отошла от столика.
– Кто это? – спросила Ольга заинтересованным голосом.
– Не знаю.
– Довольно примитивная особа.
– Ни тебя, ни меня это не касается. Это – ее личное дело, – сказал Суханов, подумал о том, что эта полная нетрезвая девица смогла, оказывается, зацепить Ольгу – вот что значит пути Господние неисповедимы, а женские – тем более. Покосился на Ольгу, подумал, что правы были древние, когда говорили: лисица, которая не в состоянии дотянуться до винограда, убеждает всех, что виноград этот – кислый и противный, а какой-нибудь полусъедобный барбарис, которого полным-полно и добраться до него ничего не стоит, – сладкий, словно ананасовое варенье, и есть его – одно удовольствие.
Верно: Ольга оглядела шумную молодежную кампанию, сидящую за соседним столиком, задержала взгляд на женихе с невестой.
– А эти вот – хорошие ребята.
– Когда спят, – хмыкнул Суханов, понял, что сказал пошлость, и помотал в воздухе рукой, будто обжегся. – Зачем мы с тобой ссоримся, спорим, воюем, а, Ольга?
– Представления не имею.
– В таких войнах ведь не бывает победителей – только побежденные. И вообще, какая радость ходить покусанным, побитым, исцарапанным? Всякая война укорачивает человеку жизнь.
– Всякая война противна, – сказала Ольга.
Суханову хотелось, чтобы Ольга оттаяла, пришла в себя, сделалась прежней Ольгой, которую он знал. Он понимал и одновременно не понимал, что с нею происходит. И что происходит с ним? Зачем он вылез с этим предложением насчет женитьбы? Перед глазами проползло что-то темное: тень – не тень, а какое-то пороховое облако, клок большой дымовой завесы, и Суханов с печалью подумал: вот оно, старческое, что всегда нежданно-негаданно приходит, еще немного, и невидимые птички затиликают в ушах, разведут певучую клюкву – прямой показатель того, что подступила старость, а с нею – склероз, одышка, мокроглазие и желание ни в чем, ни в каких делах не участвовать. Лишь только созерцать, отведя себе роль постороннего наблюдателя. Впрочем, довольно капризного наблюдателя, поскольку это часто бывает присуще старым людям.
– Значит, нет, Ольга? – спросил он тихо, мотнул перед глазами рукой, стараясь отогнать пороховое облако, застрявшее перед взором, ни туда облако не хотело двигаться, ни сюда, оно будто бы остекленело, застыло на одном месте, он знал, какой будет ответ. Короткий, как удар хлыста: нет!
– Значит, нет, Суханов, – сказала Ольга. В следующий миг торопливо добавила: – Но мы остаемся друзьями, Суханов!
– Это, выходит, никем, – сказал он.
– Ты не веришь в дружбу между мужчиной и женщиной?
– Не верю.
– Напрасно. Самая благородная дружба из всех существующих на свете.
– Такое может придумать только м-м-м… женщина, всю жизнь просидевшая за пяльцами и вышившая четыре сотни голубей крестиком, две тысячи цветиков ноликом, строчкой, стежком или… какие еще способы в этом нитяном рукоделье имеются?
– Не будь злым, Суханов.
– Я не злой, мне просто от людей отвернуться хочется. У меня душа угасла, Ольга. Мне в Арктику надо. Давай выпьем за Арктику, раз уж мы за нас с тобою выпить не можем.
– Почему за нас с тобою не можем? Можем.
– Знаешь, как в Арктике тостовали под муху?
– Не знаю.
– Каждый свежий человек, который ехал в Арктику, обязательно вез с собою муху. В пустой коробке из-под спичек – самое удобное жилье. Приезжал на зимовку, там его, естественно, встречали. Спрашивали, чего из живности привез? Как чего? Грустную худую муху. С Большой земли. Пока вез, она все тосковала в своей коробке, воли требовала. Выпустим ее пожужжать? Выпустим. Муха на радостях начинает носиться по помещению, звенит, поет, радуется, о стены стукается, рикошетит, снова звенит. Пока она летает, мужики разливают по стаканам спирт, тихо чокаются и ждут, когда муха устанет, сядет на какую-нибудь занавеску… Ты обратила внимание, Ольга, что мухи всегда любят садиться на занавески? Обязательно пристраивают себя на чем-нибудь мягком… Пока муха сидит, в тиши выпивают спирт. Главное, не спугнуть ее в этот момент. Если спугнут – питие немедленно прекращается, обязательно надо бывает подождать, когда муха кончит жужжать и вновь сядет на что-нибудь мягкое.
– Почему? – не поняла Ольга.
– Иначе неинтересно. Наливают по новой. Для этого муху опять поднимают с мягкого места, слушают, как она жужжит. И поверь, заматеревшему грубому мужику кажется, что жужжанье мухи – голос самой жизни, Большой земли, что ли.
– Ерунда какая-то!
– Не совсем. Я знаю случай, когда человека, убившего муху на зимовке, списали на материк без права работать на Севере.
– Беситесь вы там, мужики, в Арктике у себя…
– Придешь в порт меня провожать? – неожиданно спросил Суханов, постучал пальцами по ножке Ольгиного бокала.
Ольга удивилась, не ответила на вопрос.
– Никто никогда в жизни не провожал меня в порту, – пожаловался Суханов. – Ни одна из женщин. Даже бывшая жена.
– А чайки? Чайки всегда вслед за кораблями из порта идут. Чайки – это женщины.
– Чайки – это птицы.
– Если уж муха для вас, мужики, человекообразное существо, то чайка – тем более.
– Чайке на роду начертано провожать.
– В этот раз тебя будет провожать красная чайка. Тебя ведь красная чайка тоже не провожала?
– Что-то не слышал о такой, – Суханов усмехнулся.
– Ну как же, как же! Один писатель даже целое исследование красным чайкам посвятил.
– Не читал. Должно быть, большой выдумщик тот писатель. У писателя ведь как – всякая книга состоит из трех частей: одна часть угадана, другая слизана из жизни, третья выдумана. Книга этого письменника состоит только из одной части, из третьей. Красных чаек нет.
– Есть, Суханов! Я своими глазами видела.
– Увы, это бред. Я-то Арктику знаю!
– Поспорим?
– Поспорим. Если я докажу, что красных чаек нет – а я это докажу, Ольга, предупреждаю, – голос Суханова сделался тихим, чужим, будто и не Суханов это говорил, – то ты выходишь за меня замуж. Если будешь права ты, то я никогда больше не пристану к тебе с глупым предложением, со сватовством и жалобным куриным квохтаньем. Годится?
– Ты упускаешь из виду еще одно, Суханов!
– Что же?
– А вдруг я уже приняла предложение, сделанное мне другим человеком?
– Цинизм! Ну зачем же бить лежачего? – только и сказал Суханов, на большее его не хватило. Сощурился жестко, горько, Ольга, глядя на него, вдруг улыбнулась. Было сокрыто в этой улыбке что-то обнадеживающее.
Когда они выходили, то в раздевалке снова увидели бича. Тот, видать, не до конца выработался, теперь дотягивал свой репертуар до занавеса. До самой последней реплики, после которой обычно следуют аплодисменты. Бич колотил себя по груди, раздвигал дым руками – в этом маленьком предбаннике, где временно устроили раздевалку, было холодно и все, что имело температуру выше минуса двадцати, источало плотный белесый пар, шкворчало, будто сало на сковородке, и дымилось.
– Я прошу вернуть мне шапку! – бич, оказывается, выдавливал из себя самые натуральные слезы, он был настоящим актером. – У меня была роскошная шапка, ондатровая, сто пятьдесят рублей отвалил, по знакомству взял, а без блата пришлось бы отдать все двести пятьдесят – была и нет ее! Прошу вернуть мне шапку! Либо… либо двести рублей наличными. Сейчас же!
Гардеробщица – худенькая востроглазая женщина с всосанными щеками и обломленными клычками зубов – след тяжелой беременности и неудачных родов – испуганно глядела на бича и мотала головой. Ее била какая-то нехорошая нервная трясучка, на коротеньких жидких ресничках дрожали мутные дождевые капельки. Она ничего не могла сказать в ответ хамоватому бичу, видимо, считала – раз тот говорит, что у него была ондатровая шапка, – значит, была.
– Эй! – сориентировавшись, окликнул бича Суханов.
Бич мгновенно отозвался.
– Чего надо, капитан?
– Поди сюда, – сказал ему Суханов, и бич, готовно наклонив голову и глядя снизу вверх на Суханова, подошел. Суханов пошарил в кармане, достал новенькую хрустящую десятку, зажал ее двумя пальцами и поднял свечкой, будто собирался ее поджечь и устроить небольшой факелок. – Вот тебе еще червонец и отстань, пожалуйста, от бедной женщины, – сказал Суханов. – Ты же видишь, она ни сном ни духом не ведает, где твоя шапка? И какая она была у тебя…
– Стоит ли развращать клошаров деньгами, Суханов? – спросила Ольга.
– А потом ты и сам не помнишь, что носил в последний раз – кепку, шапку или пожарную каску, и если все-таки шапку, то из чего она была состряпана, из кошки или из двух корабельных крыс, – не обращая внимания на Ольгу, продолжал свой диалог с бичом Суханов.
– Червонца мало, капитан, – деловито заявил бич, хлюпнул простудно носом, сложил пальцы в щепоть и пошевелил ими – общепринятый жест, условное обозначение: бич требовал еще денег.
– Значит, считаешь, что этого мало? – недовольно проговорил Суханов. Голос у него сделался сиплым, усталым, словно бы он весь день простоял на мостике и пролаялся с командой крейсера страны Бегемотии, отказывающегося уступить дорогу его пароходу, в медную переговорную трубу, у которой не было половины заклепок, и голос, вместо того, чтобы громыхать металлически, досадливо, глохнул. – Ну-ну!
– Мало, мало, капитан. – Бич изо всей силы хряснул себя кулаком по груди, в лицо Суханову шибануло пылью. Из распаха пальто у бича вылетел клок грязной тельняшки и шлепнулся на пол. Этот клок, отрезанный от полосатого подола углом, бич пришил к рубашке, чтобы была видна его морская душа, но не рассчитал удара, и «морская душа» шлепнулась под ноги, на заплеванный грязный пол. Бич покривился лицом – ему было жалко терять «морскую душу».
Входная дверь скрипнула – и в нее вкатился тугой белёсый вал: то ли снег это был – размолотый в пыль обломок соседнего сугроба, словно старый сыр, изъеденного глубокими кротиными норами, то ли остекленевшая морось, принесенная с длинного, как дамский чулок, Кольского залива, в который заходят благотворные теплые воды Гольфстрима, то ли просто уличный пар, лишенный всякой романтичности, воняющий бензином, потом и сырой нечищеной обувью, – не понять. Гардеробщица всхлипнула, прижала слабые детские руки к воронкам всосанных под скулы бледных щек, и это решило все.
– Хорошо, – тихо, отрешенно, будто и не он это говорил, произнес Суханов и в следующий миг стремительно, словно всю жизнь только тем и занимался, что вышибал разный сброд из кафе и ресторанов.
Бич ойкнул задавленно, в себя, отплюнулся, целя попасть Суханову на ботинки, но промахнулся, да и не до того уже было: ноги его стремительно оторвались от пола, словно бич был не бичом, а невесомой мухой, любительницей перемещаться в пространстве, заперебирал лапами, стремясь найти что-нибудь твердое, надежное, но опоры не было, и он испуганно обмяк в крепких руках. В следующую минуту он, наверное, обмокрился бы, но не успел – набирая скорость, вынесся в приоткрытую дверь, разваливая неряшливые сырые взболтки, что как шары перекати-поля, подпрыгивая и жестяно громыхая на ходу, подкатывались со всех сторон к кафе, и чуть не сбил полоротого подростка-петеушника, получившего первый раз в жизни деньги и оттого обалдевшего, переставшего ощущать себя, видеть улицу и людей. Через несколько секунд до Суханова донеслось грузное сухое шварканье – бич въехал в сугроб.
«С благополучным приземлением! – мысленно поздравил Суханов. – Там тебе будет тепло и мягко». Ольга зааплодировала, но глаза ее были грустными – она не одобряла такого молодечества, в уголках ее губ появились скорбные глубокие точечки, похожие на уколы спицы, глаза потемнели, приобрели глубину.
– Не слишком ли жестоко? – спросила она у Суханова. – Ты раньше не был таким.
– То раньше, – спокойным тихим голосом произнес он. Ему было что-то не по себе. От того, что сегодня ему попался на глаза бич, что он расправился с ним, обидел, вогнал задом в сугроб, от того, что Ольга отказала ему, от выпитого, хотя он не пил, от крутобокой, дышащей любовью девицы, жаждущей познакомить его с гуманоидами, от сегодняшнего мороза, от завтрашнего выхода в море – от всего того, что произошло, и даже от того, что еще только должно было произойти.
Бич был в порядке и, похоже, трезв, хмель из него вышиб полет в сугроб. Он возился в снегу, кряхтел, бормотал что-то себе под нос.
– Ой, спасибо вам, большое спасибо, – ожила, запричитала гардеробщица, продолжая прижимать костлявые детские кулачки к щекам, из глаз ее полился дождь – слезки были мелкими, частыми, жгучими, лицо от плача исказилось, сморщилось, – спасибо вам большое, дяденька!
Суханов покосился на эту полушкольницу-полупенсионерку, пытаясь определить, сколько же ей лет, – что-то в гардеробщице было и старушечье, и девчоночье одновременно, она была робка и стеснительна, какими приезжают в города жители глухих комариных деревень, и вместе с тем была, что называется, себе на уме, – хмыкнул: ну уж и дяденька. В двери появилась Неля, быстро оценила ситуацию:
– Правильно поступили, Александр Александрович! Это вам в конце жизни при подбитии итогов зачтется, как доброе дело.
– Попросите, Неля, небесную канцелярию, чтобы не забыли занести в кондуит.
– Счастливого плавания, Александр Александрович! И столько футов под килем, сколько хотите.
Суханов поправил ллойдовскую фуражку на голове.
– Знаете, что такое фут, Неля?
– Сколько-то там сантиметров, не помню… А что?
– Фут – это расстояние от кончика носа до конца указательного пальца английского короля Генриха Девятого – большого оригинала и любителя пива.
– Интересно, интересно. Это из области морских баек, да?
– Нет, это из моих собственных сведений. А по энциклопедии фут – это длина человеческой стопы.
– Александр Александрович, говорят, что человек, солгавший один раз в жизни, обязательно солжет и в другой. Кто это сказал, не помните?
– За кого вы меня принимаете, Неля? Посмотрите на мое честное открытое лицо. – Суханов грустно усмехнулся, поглядел на Ольгу, та взяла Суханова под руку – защитное движение человека, который стремится сберечь другого человека, а в себе – непотревоженную тишь. Хотя часто эта тишь оказывается мнимой, придуманной – и не происходит ли подобное сейчас с Ольгой? Впрочем, может, и происходит, – Суханов сглотнул что-то горькое, резиновое, скопившееся во рту, зябко передернул плечами, подумал о том, что он может, в конце концов, поменяться местами с бичом, что сейчас пыжится, кряхтит, выкачивает себя из сугроба. У бича никаких забот, кроме как пожрать и выпить, и эта скудность желаний вызывает какую-то ущербную зависть: а почему бы, в конце концов, не сбросить с себя все заботы, не ограничиться минимумом?
Он отрицательно качнул головой: нет. Ольга еще теснее прижалась к Суханову, и это движение вызвало в нем приступ острой секущей тоски, он, сощурив глаза, шагнул к выходу, за дверью остановился, поднял голову, посмотрел вверх, в перистое, исчерканное белесым пухом невысокое небо, будто надеялся там найти что-то очень близкое, родное, принадлежащее только ему одному. Но что близкого и родного может найти в холодном далеком мареве непонятного переливчатого тона человек? Земным подавай земное – и нет им дела до разных небесных страстей. Он получил сейчас щелчок по носу, и нет бы ему улыбнуться, отойти в сторону, уступить место другому. А он? Что за пошлые думы роятся в голове? Это ведь все злое, чуждое, никак не присущее ему! И все-таки зачем он цепляется, будто утопающий, за обрывок бумажной бечевки, в которой крепости меньше, чем в пресловутой соломинке, тянет голову вверх, хватает ртом воздух, дышит и никак не может надышаться. Душно ему. Что-то хваткое, жесткое стискивает грудь, чужая рука пытается нащупать сердце и причиняет беспокойство.
Далекий, но очень отчетливый и остро ощущающийся страх возникает в нем, движется, подчиняя себе не только мозг, а и тело, мускулы – всего Суханова. И некуда от этого страха скрыться. Что происходит с ним, что?
Говорят, что если сощуриться посильнее, то в дневном небе можно различить звездочки, крохотные, блеклые, выстуженные долгой лютой зимой. Впрочем, что зима! Суханов относится к ней вон как: носит фуражку-ллойдовку и легкие, с тоненькой подошвой, сквозь которую чувствуется снег, туфли-мокасины. Все это пижонство, красивое лихачество, грозящее простудой. Либо, в крайнем случае, замелькает в глазах какое-нибудь верткое черное пшено, и все. И никаких тебе романтичных выстуженных звезд – мелких грустных осколков чьей-то разбитой радости.
Бич тем временем выкачался из сугроба, выплюнул изо рта мерзлое жеваное крошево, высморкался громко, лихо, потом сунул руку за пазуху, достал оттуда старую мятую кроличью шапку с мягкими вытертыми ушами и нахлобучил себе на голову. Суханов нащупал в кармане десятку, кинул ее бичу.
– Плата за мелкое неудобство, – сказал он тихо, только для одного бича, эту фразу даже Ольга не услышала. – Встань со снега, дурак! Простудишься! – поморщился недобро, встряхнул плечами, будто бы сам, а не бич, сидел на снегу.
Подумал о том, что совершил ошибку, пытаясь искать самого себя в женщине, в посторонних предметах, в отношении к этому бичу, в сравнении с ним: а как бы он поступил, находясь на его месте? Надо бы искать себя в самом себе и не виниться в том, что руки кривые, ботинки на ногах очень тесные, а на кухне перегорел утюг. Как не винить соседа, капитана парохода, директора универмага, жэковского электрика. Во всем худом, что происходит с человеком, виноват сам человек.
– Вот и шапка нашлась! – весело проговорила Ольга, глядя на бича.
Что шапка? Ох, если бы наши находки были равными нашим потерям. И не стоит ставить себя на место школяра, которому дозволено все, – он может и приударить за своей одноклассницей, и влюбиться в учительницу, и признаться в нежности к пионервожатой – для него все сойдет, все простительно. А для Суханова? Каждому свое: одним – сухое жаркое лето, розовые зори и тихая благостность вечеров, другим – мозготная холодная осень, дожди, пузырящиеся лужи, ревматическая ломота в ногах. Никакое ожидание чуда не спасает. У школяра ведь как? У него все обычно – как, собственно, у всякого обычного человека: кончается детство – начинается любовь, кончается любовь – начинается привязанность, кончается привязанность – что начинается? Скорее всего, неверность. Счастлив тот, кто ничего не знает о неверности близкого человека. Впрочем, какое уж это счастье – быть слепым?












