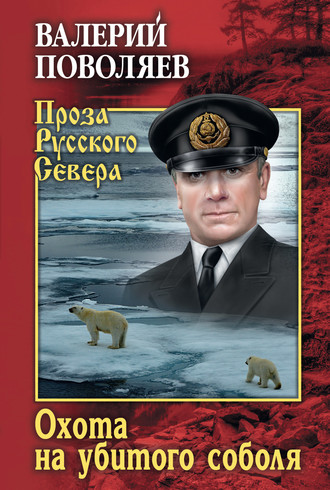
Полная версия
Охота на убитого соболя
– Налево, что, визу не дают?
– Почему? Дают. Только направо интереснее, – Суханов вытащил тонкую изящную зажигалку с перламутровыми вставками на щечках, дал прикурить.
– Вы гуманоид? – неожиданно спросила девушка.
– А вы любите поговорить? – в свою очередь поинтересовался Суханов.
– Хлебом не корми…
– Нет, я не гуманоид.
– Жаль, а то в нашей кампании есть два гуманоида, из Москвы прилетели.
– Надолго?
– Их уже отзывают назад. Завтра снова будут в Москве.
– Времени нет, а могли бы хорошо поговорить, – Суханов сделал скорбное лицо и вздохнул.
– И я так думаю, – девушка покачнулась, взялась пальцами за край стола. Суханов внимательно посмотрел на нее. Глаза девушки были сухи, чисты, трезвы, надежны. – Тема гуманоидов меня волнует.
– Надолго? – снова спросил Суханов. Его словно бы заклинило на этом вопросе.
– Естественно, нет, – девушка доверчиво улыбнулась, – послезавтра утром, когда здесь не будет гуманоидов, все пройдет. – Она повернулась и, ловко изгибая свое мягкое, словно бы лишенное костей тело, двинулась к себе, в противоположную сторону, стараясь не зацепить ни один из столиков. Провела свое тело к столу, как лоцман высокого класса, в задымленной атмосфере кафе даже ничто не колыхнулось.
Все было просто и понятно, как Божий день. Суханов посмотрел на часы – Ольга запаздывала.
В правом дальнем углу, под стенкой, на которой тускловатыми слепыми пятнами светилось несколько алюминиевых блюд, изображающих, кажется, сцены из жизни богов, впрочем, может, и не богов, а римских или греческих чертей, либо рыб или слонов, издали трудно разобрать, и вообще, что означают эти творения, объяснить, наверное, может только сам художник, – сидел седой загорелый человек в черной морской форме и «четырьмя мостиками на ручье» – четырьмя золотыми шевронами на рукаве, что соответствовало капитанскому званию. Суханов несколько раз видел этого человека, но не был знаком с ним, слышал только, что тот водил когда-то большой сухогруз, но потерпел аварию в море Лаптевых, спас команду, а судно спасти не смог – вместе с грузом ушло на дно. Трое суток люди вместе с капитаном, озябшие, в мокрой одежде, практически без еды, сидели на берегу и, ожидая помощи, кое-как поддерживали маленький слабый костерок. Топлива на берегу не было никакого, только камни и мерзлый мох, и команда скормила огню свои записные книжки, деньги, документы – жгли все, что только могло гореть. Последнее, что капитан бросил в костер, был его судоводительский диплом.
С тех пор он уже не плавал, на море поглядывал лишь из окна своей квартиры, да приходил в это кафе, сидел, молчал, слушал разговоры, рассматривал моряков и потихоньку потягивал что-то из «шайки». У него были седые длинные волосы, красное, просоленное, пробитое, выстуженное морскими ветрами лицо, внимательные умные глаза и неторопливые манеры человека, который знает нечто такое, что мало кто знает. К столику капитана подсел бич и щелкнул пальцами, подзывая официантку. К нему подошла Неля.
– Сто граммов водки, – потребовал бич.
– А деньги у тебя есть? – спокойно, на «ты» спросила Неля – она умела разговаривать с разной публикой, в том числе и с такой, видела людей насквозь, знала, кто есть кто и что есть что, была хорошим психологом, как вообще часто бывают хорошими психологами торговые работники; бич дернулся, словно его стегнули плетью, хотел ударить себя кулаком в грудь, возмутиться, но ему не дал капитан, посмотрел внимательно на Нелю, та даже смутилась от этого пристального взгляда, но вида не подала, что смутилась, продолжала стоять, гордая и прямая, с блокнотиком заказов, зажатым в правой руке, и тогда капитан сказал:
– У меня есть деньги. Дайте ему. Я заплачу.
– Вот видите, он заплатит! – восторженно выкрикнул бич и потыкал пальцем в капитана: неприятный жест, вызывающий недоумение и горечь, как недоумение и горечь вызывают сами бичи – неистребимая принадлежность северных портовых городов. Сколько с ними милиция ни борется – справиться не может, и выселяет их, и переписывает, и на работу пристроить пытается, и на постой определяет – все бесполезно: живут бичи на земле вольно, без хлопот. Где хотят, там и ночуют, пьют, не заботясь о том, что за это надо платить, приворовывают потихоньку, ворованное продают, и нет никаких сил у милиции совладать с бесчинствующими элементами – ползут бичи, распространяются, словно червяки, съедают листья у деревьев, оставляя после себя вытоптанную, загаженную землю да черные, голые стволы.
И без бичей в порту не обойтись, между летом и зимой всегда бывает вилка. Летом работы полно, в два раза больше, чем зимой, – несмотря на то что порт работает круглогодично, не замерзает ни в какую, даже самую лютую зиму, – но все равно в январе работы в два раза меньше, чем в августе, и естественно, позарез бывают нужны сезонные рабочие. Вот тут-то бичи и пригождаются, тут-то они – надежда и опора портового начальства, передовики производства, да и на пароходах, когда кто-то заболевает, а подмену толковую найти сразу не удается, взор тоже обращается к бичам. Хотя капитаны делают это редко – уж больно ненадежен материал-то. Но, увы, не всякий капитан так рассуждает, иные считают: авось у бича совесть пробудится.
Вот и живут, плодятся бичи в Мурманске и Тикси, в Охе и Южно-Сахалинске, в Певеке и Магадане, неистребимое цепкое племя, крикливое, биндюжье, безденежное, опустившееся.
Бич лег на стол грудью, наклонился к капитану и по-голубиному заворковал. Что он там говорил – не было слышно. Суханов снова глянул на циферблат часов: Ольга должна бы уже быть здесь, в кафе, но увы… Хуже нет, когда договариваешься расплывчато, не назначая точного времени – приходи туда-то, мол, и все, а надо договариваться точно: приходи во столько-то, и тогда не будет пустых терзаний, маяты и неясности, мучительного долгого ожидания. Может, встать и пойти к телефону-автомату, снова позвонить Ольге?
Нет, не стоит суетиться. Суета нужна только в двух случаях жизни, в третьем она уже лишняя.
А женщина, которую он ждал, еще не выходила из дома. Уже одетая, в высоких сапогах, с туфлями, положенными в полиэтиленовую сумку, она стояла посреди своей квартиры и вела разговор с человеком, сидевшим перед ней в кресле. Хотя лицо ее было спокойным, даже каким-то застывшим в неестественном внутреннем оцепенении, в некой напряженной немоте, которая, случается, накатывает на человека в минуту возбужденности, когда невольно кажется, что земля уходит из-под ног, кренится набок, все летит прахом и сам человек через минуту-другую унесется в преисподнюю, и, чтобы хоть как-то отдалить конец, одолеть все это, он цепенеет, лицо его делается каменным, неживым, излишне спокойным.
Мужчина, сидевший в кресле, хорошо знал Ольгу и вел неторопливый разговор, курил, стряхивал пепел в фарфоровую розетку, зажатую в пальцах, и с каждым таким стряхиваньем Ольга болезненно прищуривала глаза: розетка не для пепла была предназначена – для варенья. Мужчина пришел внезапно – Ольга не ждала его. Неожиданно раздался звонок в дверь, Ольга открыла и с каким-то слепым удивлением отступила назад: на пороге стоял Вадим с букетиком подснежников.
– Вот, – сказал Вадим и протянул Ольге букетик, – у человека в большой кепке купил.
«Ох, какое это все-таки неудобство, когда в дом приходит незваный гость, – подумала Ольга, понюхала подснежники. Цветы пахли чем-то слабым, лежалым, мокрым – наверное, тающим снегом и проступающей сквозь него землей, вязкой, кое-где с ледяными монетами, влажной, еще не проснувшейся, заставляющей сжиматься сердце: будто сделал некое открытие, а открытия-то никакого и нет. Поморщилась. Когда гость вваливается внезапно, то… в общем, есть тут нечто такое, что невольно заставляет морщиться. Хотя Вадим – это Вадим, – лицо ее на несколько секунд расслабилось, она ощутила в себе что-то теплое, доброе, будто подсела к огню и почувствовала горячий плеск пламени.
– А знаешь, почему грузины носят большие кепки? – спросил Вадим и тут же ответил: – Чтоб брюки не выгорали.
Не дожидаясь приглашения, прошел в комнату, опустился в кресло, посмотрел на свою обувь, Ольга тоже посмотрела, хотела сказать что-то, но Вадим не дал ей это сделать, пояснил с доброжелательной широкой улыбкой: «Как видишь, ноги у меня чистые, я по улице почти не ходил, все в такси ездил». Пошарил в кармане, достал сигареты и спички, одну сигарету сунул в рот, побрякал коробкой, проверяя, есть «топливо» или нет, вздохнул:
– Замотался я сегодня, как Александр Македонский в Египте. С самого утра на ногах, – просветленными глазами оглядел Ольгу, спросил с улыбкой: – А ты, я вижу, куда-то собралась? Одна? Без меня?
– Да, собралась, – сказала Ольга, – недалеко и ненадолго, – махнула рукой. Жест был неопределенным. – По одному важному делу.
– Без важных дел ныне редко кто куда ходит. Категория чистых бродяг, увы, перевелась.
– Надеюсь, ты меня за бродягу не принимаешь? – Ольге вдруг захотелось хоть чем-то досадить Вадиму.
– Упаси Господь. Ты у нас современная деловая женщина, которая не тратит времени попусту – все рассчитано, все расписано. – Вадим говорил, голос у него был мягким, обволакивающим, такой голос опасен, он расслабляет, зачаровывает – она понимала, что будет слушать Вадима до бесконечности, о чем бы тот ни говорил – о пустяках или о крупном, о грядущем всемирном потопе, о событиях, покрытых плесенью времени, либо же о том, что у него ноет отдавленная в магазинной толчее нога, когда он покупал для Ольги торт и шампанское.
Строгий расчет и обязательную расписанность времени, когда не допускаются ненужные траты, – это все Вадимово, он никогда не транжирит и не жжет попусту минуты, у него не бывает пустых пауз, все подогнано друг другу плотно, без щелей, ни одна секундочка не свалится на пол со стола.
– Я прошу тебя, не уходи, – проговорил Вадим, не меняя тона, голос его продолжал оставаться ласковым, убаюкивающим. – Ну, пожалуйста, Ольга!
– Не могу.
– Я тебе шампанское принес, пирожные, которые ты любишь. Посидим, поговорим. Куда тебе идти в такой мороз? Хрупкой слабой женщине… Да этот мороз портовых грузчиков с ног сбивает!
– Пойми, мне надо уйти. Я обещала!
– Куда именно надо уйти? Скажи, и я тебя отпущу. – Вадим засекал каждое ее движение, каждую перемену на лице, заметил и тени, что появились под глазами, и усталые морщинки, обметавшие уголки губ, и беспокойно расширенные зрачки – видел то, чего не могла увидеть без зеркала сама Ольга. Усмехнулся грустно. – Недавно я открыл один заграничный журнал рисованный, «Ателье» называется. Карикатуры. На все темы жизни. Есть там один простенький рисунок. На проводах сидят две маленькие серенькие птички – кажется, воробьи. А может… Не суть важно – воробьи, в общем. Он и она. Она ничего, обыкновенная птичка, а у него на маленькой хрупкой головке – огромные оленьи рога. Это надо же – у воробья ветвистые оленьи рога! Скажи, откуда у воробья могут быть такие рога?
Ольга молчала. Она думала о том, что же конкретно связывает ее с этим человеком. Кем он ей приходится? Мужем? Любовником? Хорошим знакомым? Другом, без которого никак нельзя обойтись? В ней возникло что-то протестующее, но, увы, далекое – это душевное движение было слабым, неприметным, оно угасло, не успев разгореться, на лице ее, спокойном, застывшем в каком-то странном отрешении, ничего не отразилось.
Все мы глупеем, превращаемся в людей, незнакомых самим себе, и одновременно робеем, будто цыплята, только что выбравшиеся из-под наседки, делаемся почтительными, как взятые за ухо школяры, когда узнаем, что кто-то находится выше нас. Неважно, в чем выражается это превосходство, в служебном ли положении в книге, которая получила признание, в научном открытии, либо просто в искрометных остроумных речах – все равно! Мы будем смущаться, робеть, прятаться в некую душевную скорлупу, зажиматься, чувствовать себя черной костью, ибо в мозгу, в самых дальних закоулках теплится, сверлит голову мысль: а ведь этот человек стоит выше… Почему все это происходит, кто может объяснить причину такой зажатости? Почему Вадим стал таким? Ведь он всегда был сильным, умелым, способным вести за собою, покорять – и вдруг квелость, робость, погруженность в самого себя? Он готов хныкать от того, что на спине вскочил прыщ, а на пальцах натерты мозоли, стал склонным к наушничанью и сплетне – вещам, как известно, совсем немужским.
– А ты красивая женщина, Ольга, – Вадим пустил изо рта дым колечком – ровным, четким, хорошо видным в сумраке затененной комнаты. Колечко высветилось мертвенной синью, задрожало, будто живое, поползло вверх. – Ты престижная женщина, Ольга!
– Как дубленка фирмы «Салан», – усмехнулась она, – и надеть приятно, и в ломбард заложить можно.
– Красивая женщина – подарок и наказание одновременно, – Вадим не обратил на Ольгин выпад внимания. – А чего больше – никому не ведомо. Ник-кому. Потому и маются сильные мира сего, не зная, как с такой женщиной обходиться: то ли как с подарком, то ли как с наказанием? Действительно, как?
Внутри у нее снова родился протест, но протест опять был слабым, он снова так и не разгорелся, угас. Но она поняла в эту минуту, чем держит ее этот человек. Обычной вещью: в нем все время появляется что-то новое – каждый раз он преподносит нечто неведомое ей, свежее – некую историю, эпизод, анекдот, даже пошлость, которая у него не выглядит пошлостью, какую-то мысль, находящуюся на поверхности, но, увы, до Вадима никем не подмеченную, либо точно увиденную деталь, или характер знакомого человека: вроде бы человек был ведом всем – все знали его в определенной ипостаси, и вдруг он приоткрыл створки и сделался другим – именно эти моменты душевной раскупоренности умеет подмечать Вадим.
Он постоянно имел на руках, выражаясь словами современных технократов, пакет информации. Ведь человек интересен нам до тех пор, пока он владеет этим пакетом, сообщает нам нечто новое, неведомое, остро и тонко подмеченное; как только он начинает сбиваться, повторяется, так все – этот человек исчезает для нас. Как собеседник он делается неинтересным.
Вадим знает, в чем фокус, где зарыта собака, он психолог и в соответствии с этим и действует. Часто это «новое» бывает скрыто не в тексте, а в подтексте, не в словах, а в тоне.
– Извини, мне надо идти, – произнесла она сухо.
Вадим не шелохнулся в кресле.
– А если я к тебе обращусь с молитвой, а? Попрошу не уходить?
– Мне все равно надо будет уйти.
– От «надо» до «должно» – большое расстояние, – сказал Вадим, и Ольга подумала, что, несмотря на интересность, он большой зануда. – Если измерять обыкновенным складным метром, то…
– Бытовая философия!
– Философия сегодня стала общедоступным удовольствием, больше всего философствуют на кухне, философствуют все – от домохозяек до кочегаров, обслуживающих бани. Красиво жить не запретишь, увы, – Вадим стряхнул пепел в розетку и развел руки в стороны, – все мы философы и актеры, и как только сочетаем все это в себе – уму непостижимо… Но все! Одни в большей степени, другие в меньшей. Исключение, может быть, составляют люди, которые имеют одну лишь извилину. Да и ту, извини, не в голове. – Лицо Вадима сделалось грустным, отсутствующим, в нем будто бы что-то умерло, глаза потемнели. Он снова пустил аккуратное сизое кольцо, кольцо, гибко шевелясь, распуская свое тело, медленно поползло вверх, Вадим не дал ему уползти, рубанул ладонью, обратил в обычный дымный взболток, резким движением руки отбил к полу. Проговорил грустно: – Вот так и в жизни!
Когда Вадим бывал грустным, Ольге обязательно хотелось пожалеть его – такова бабья натура. Со всеми ее издержками.
– И что в жизни? – спросила она тихо.
– Тяжело бывает взять какую-нибудь высоту, ох как тяжело – зубы все потеряешь, пока не вгонишь флагшток в холодный камень вершины, но куда тяжелее бывает удержать ее.
– Ну-ну, выше голову, – произнесла Ольга ненужную бодряческую фразу. Будто не она говорила. Поняла, что не надо было и произносить. Хотела что-то добавить, поправить сказанное, но не стала, махнула рукой.
– Вот она, во-от она-а, расхожая бабья философия: все впереди, все-е… Позади только хвост. – Лицо Вадима сделалось еще более грустным, появилось в нем что-то угрюмое, зажатое, чужое. – Хвост, – повторил он, словно бы любуясь тем, как звучит это слово: – Хвост… – Вздохнул. – «Мурманск телеграф-сервис» набирает на работу шестнадцать девушек, восемь блондинок и восемь брюнеток, для увеселения моряков, празднующих на берегу именины, дни рождения и повышения по службе…
– О чем это ты? – не поняла Ольга.
– Шутка, на Западе распространенная очень широко. Какая-нибудь честная кампания, отмечающая в баре торжество, заказывает на «телеграф-сервисе» девушку, та приходит, целует всех подряд, на лице главного виновника оставляет красных следов в два раза больше, чем у других, ведь за помаду все равно уплачено, получает свои десять долларов и под громкую бравурную музыку уходит. Этакий шоу-бизнес. И кампании приятно, и у девушки заработок.
Ольга передернула плечами: опять Вадим перегибает палку. Все-таки цвет у пошлости всегда бывает одинаков. Полутонов почти нет. Ей стало неприятно.
– Одни заказывают себе стриптиз на дом, другие – «Аллилуйю» в исполнении популярных сладкопевцев, любителей подработать, третьи – синяк под глаз неугодному сослуживцу, а кое-кто вообще нанимает людей, чтобы устроить своему шефу публичный скандал при стечении народа, где-нибудь на многолюдной площади. Красиво, а! И люди это делают! Унижают, компрометируют несчастного шефа, обрывают у него пуговицы на пиджаке, оскорбляют, заставляют плюхнуться на живот и лизать чужие ботинки. Комедия жизни, она… что там, что тут – она везде комедия, – Вадим снова развел руки в стороны, стряхнул пепел в розетку.
– Извинись сейчас же, – тихо попросила Ольга.
– Извини, пожалуйста, – Вадим улыбнулся широко, открыто – улыбка, которая ей нравилась, на лице его возникло некое суматошное движение, и это движение вызвало у Ольги ответную улыбку. – Ну вот, – вздохнул Вадим облегченно, – вот ты и оттаяла, вернулась из-за облачных высей на землю. Я с тобою разговаривал, а ты не слышала. Это была ты и не ты одновременно. Ты здорова? Хорошо себя чувствуешь?
– Хорошо.
– Тогда прошу – не уходи.
– Эх, Вадим, Вадим, ведь ты же… – Ольга мотнула рукой, сбивая наземь дымовое кольцо, устремившееся к ней, хотела сказать, что Вадим ведет себя, как баба, но не стала ничего говорить – ей расхотелось обижать этого человека.
– Мужчина ведет себя так, как позволяет ему женщина, – угадав, о чем она думала, проговорил Вадим. – Неписаная истина.
– Фраза, за которой ничего не стоит.
– Ой ли! – живо воскликнул Вадим, сморщился обиженно, словно у него что-то заболело, перехватило дыхание, на лбу выступили мелкие блестки пота. – Хочешь, я на колени плюхнусь перед тобой, попрошу, чтоб ты не уходила, а? Хочешь?
– Нет, не хочу, – Ольга приблизилась к Вадиму – что-то в ней дрогнуло, сместилось. Она подумала, что не должна, не имеет права мучить этого человека, и вообще в этой ситуации она обязана быть добрее, чем на самом деле. Но тогда как же Суханов?
Почувствовала, что терпит крушение, судно, на котором она плывет, потеряло управление, врезалось в камни, в пролом хлынула вода, еще немного, и корабль опрокинется, ткнется мачтами в донный песок и никогда никуда уже не поплывет. Видать, печальные люди испускают некие волны, лучи, эти волны передаются другим людям, заставляют их грустить, заботиться невесть о чем, ощущать тоску и тягу к теплу и душевному покою.
Досадливые морщины сползли с лица Вадима, обида стекла, он почувствовал перемену в Ольге, спросил тихо:
– Тебе плохо?
– Да.
– Тебе со мной плохо? – попытался уточнить он то, что не надо было уточнять, увидел, как в Ольгиных глазах вспыхнуло что-то колючее, яркое, понял, Ольгу лучше ни о чем не спрашивать. Он был все-таки умным человеком, этот Вадим, понимал, когда идет карта в игре, а когда нет. – Ох и женщина! – воскликнул он, и Ольге почудилась в его голосе горечь.
А Суханов все продолжал ждать, хотя ждать уже не надо было, посматривал на часы, прислушивался к шумному говору молодых соседей и думал о том, что он, возможно, обманывает себя, придумав историю с Ольгой, с тем, что он в нее влюблен, а она, в свою очередь, влюблена в него. Впрочем, насчет того, что Ольга в него влюблена, может быть промашка, в этом надо еще здорово покопаться, посоображать, что к чему, свести концы с концами, и если концы действительно сойдутся, то осторожно сказать самому себе – да, синьор, она в вас влюблена. Шепотом, втихую, только для себя и ни для кого из окружающих. Чтобы не опошлить, не оскорбить светлое чувство. Суханов вдохнул: похоже, что он имеет две души, два начала, в море он один, на земле – другой. В море у него и решительности больше, и хватки, и смелости, а на земле его, глядишь, вот-вот озноб пробьет – из-за того, что не пришла женщина. И вообще, чуть что – походка уже делается деревянной, чужой, кости ноют, в голове появляется медный звон, в теле вялость, словно бы он сам себе не принадлежит.
Он никогда не задумывался над тем, есть у Ольги кто-нибудь, кроме него, или нет, а сейчас подумал – точнее, даже не подумал, а понял, твердо, окончательно определил – есть! Суханов знал, что Ольга была замужем за каким-то ломучим нервным парнем, который устраивал ей бабьи истерики, пытался бить, но Ольга умела постоять за себя, и тогда парень, понимая, что ничего у него не выходит, Ольгу он не устрашит, не покорит, заливался слезами, рыдал, ползал перед ней по полу, целовал ее туфли и громким патетическим голосом, будто трагический актер, выкрикивал разные лозунги. Ольгин муж работал на телевидении то ли режиссером, то ли оператором, то ли организатором массовок – кем точно, Суханов не знал и никогда не задавался этим вопросом, а Ольга не говорила – в общем, был тот человек близок к искусству и старался эту близость оправдывать показательными выступлениями в жизни.
В конце концов он смертельно надоел, и Ольга ушла от него.
Что-то острое, сильное, больное пробило Суханова, заставило вздрогнуть, он сморщился, звуки кафе уползли куда-то в сторону, истаяли, и в наступившей пронзительной тишине он услышал стук собственного сердца, бившегося мерно и горько, словно метроном, установленный на братской могиле, ощутил острую секущую тоску, и ему сделалось трудно дышать. Так иногда бывает тяжело дышать на высоких широтах в гулкий мороз – стужа выедает кислород в воздухе, воздух становится крепким, как спирт, и, кажется, таким же сухим и горьким, хватанешь его, а он колом застревает в глотке, ошпаривает нёбо и язык – не воздух, а растворенный в огне металл. Вот и сейчас Суханову показалось, что он хватил полным ртом именно такого жгучего морозного воздуха. Почудилось, что у него на глазах выступили слезы, но слез не было. А может, и были они, но только недолго держались – испарились почти мгновенно. Подошла Неля, сделала укоризненное лицо, уперла руки в бока.
– Что же вы, Александр Александрович, не едите, не пьете ничего?
– Время не подошло.
– Раньше дамы не рискуете начать?
– Как и положено офицеру флота, Неля, – произнес Суханов грустно и чуть манерно, потянулся за сигаретой, закурил. Состояние озноба, душевной боли прошло, а вот печаль осталась: он понимал, что с ним происходит, корнями волос, мышцами своими, плечами, черт возьми, чувствовал жизнь этого кафе, интересы, которым были подчинены собравшиеся, связь столов, что, казалось, совсем не связаны друг с другом, а на самом деле связаны, понимал и свое состояние, и причину Ольгиной задержки… Значит, все правильно, значит, его догадка верна. Но тогда почему же Ольга ничего ему не скажет, не даст понять хотя бы намеком, хотя бы полусловом или полужестом, что он лишний в ее жизни? Ведь это же очень просто, – и он снимет фуражку, поклонится, уйдет.
– Не грустите, Александр Александрович, – сказала Неля. Она все прекрасно понимала, чутьем обладала отличным, как некий совершенный прибор, ей ничего не надо было объяснять, она и успех, и поражение чувствовала на расстоянии, загодя, когда человек, с которым должны были произойти изменения, о них еще даже не догадывался. А уж что касается тонкостей обманутой души, семейных разладов, боли и примирений, то по этой части Неля могла бы написать учебник – ведь многое происходит у нее на глазах, здесь же, в кафе.
Хотел сделать Суханов веселое лицо, скрыть свое состояние, но вовремя остановился – ни к чему это, Неля все равно раскусит его.
Вяло помотал в воздухе рукой, улыбнулся.
– В жизни, как в кино, Неля. Все течет, все изменяется.
– Она придет, Александр Александрович, обязательно придет, – убежденно сказала Неля и посмотрела в угол, на столик, за которым сидели капитан и бич, коротая время в мирной беседе.
Неля всегда все чувствовала заранее. Поговорив немного, бич вдруг решил, что маленькая война лучше, чем большой мир, взлохматил волосы у себя на голове, засверкал очами, которые засветились у него по-кроличьи красно, налился помидорным цветом и неожиданно резко вскочил. Прокатал в горле металл, ударил себя кулаком в грудь и громко, сочным басом, будто выступал со сцены, объявил:












