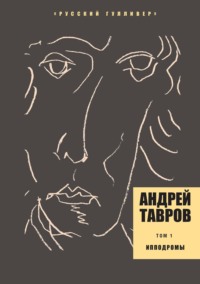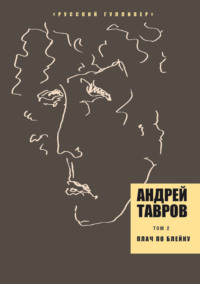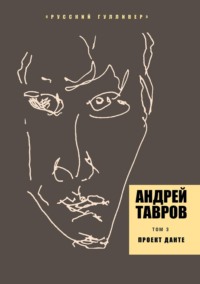Полная версия
И поднял его за волосы ангел
Теперь она говорила гладко, почти без запинки.
– Они здесь у меня, все эти письма, все до единого, но я их никому не покажу, вы, наверное, меня понимаете?
– Понимаю, – сказал Филипп.
– Может вам что-то надо? – спросил Филипп, когда мы прощались. Но ей ничего было не нужно. Она попросила, если можно, оставить ей конверт с ее письмом. Мы вышли на улицу. Я все думал, что надо бы попросить у нее хотя бы глянуть на те стихи, что написал ей Китаец, пока не сломался, но, поразмыслив, промолчал.
А когда мы дошли до моря и запахло водорослями и йодом, темная комнатка стала казаться иллюстрацией из какой-то старинной повести, прочитанной до конца, хоть и не очень складной. Все же удивительна эта способность событий – превращаться в литературу. Сам не знаешь, чего больше от этого хочется, плакать или плеваться.
10
Мы сидим с Авдотьей и Филиппом за столиком на веранде кафе, у нее белые ноги и цветные шорты, она приехала на велосипеде, но мы все перепутали лица, я говорю немного сбивчиво. Это относится не только к нам троим, история с лицами, она имеет отношение к каждому человеку. Можно представить себе пространство из лучших объемов вашей жизни, в которых пахло сиренью или сигаретным дымом, или тонким запахом тумана, водорослей с моря. И вы видите, что этот прекрасный объем вашей жизни – без границ и связок – вбирает в себя раковины. Но не просто раковины, хотя среди них есть и парочка мокрых рапанов, только что вытащенных из воды, – в основном это поющие и сухие ракушки, блуждающие по вашей жизни, по вашему счастливому объему в воздухе и распевающие тихие песни.
Вы таких песен еще не слышали, хоть и мечтали всю жизнь, хоть и знали, что где-то да должна быть волшебная музыка, от которой вся жизнь – словно запах сирени или поцелуй на причале, только если запах сирени и поцелуй иногда кончаются горечью или просто ничем, то пение ракушек устроено так, что не становится горечью, вообще, никогда ничем плохим не кончается, а, наоборот, с каждым мигом набирает силу и глубину, и вы наконец-то понимаете, что есть такие места, где счастье движется не к слезам и разлуке, а только в одну свою сторону – становясь все глубже, все обширней, все легче и таинственней. Как будто кто-то взял и отменил все наши правила и законы.
Вы еще побаиваетесь, думаете, что вот оно сейчас возьмет и кончится, возьмет и, как всегда, оборвется, но даже эти ваши предательские мысли тут теряют свою силу – оно не кончается, это фарфоровое, живое пение живой горячей керамики, которая теперь, витая в воздухе и образуя самые разные фигуры траекториями тихих раковин, тем самым создает все новые вариации вашей музыки, напоминая отчасти множество фигур шахматной партии. Но если в шахматах количество комбинаций ограничено, то тут, как вы начинаете постепенно догадываться, оно – бесконечно, потому что все эти ракушки, включая двух мокрых рапанов, выбрались каким-то образом из вашей грудной клетки, которая внутри бесконечна. И поэтому все новые раковины восходят из нее как пузырьки воздуха. И поскольку они не лопаются, как пузырьки, то продолжают жить и петь, а вы уже догадываетесь, что пение и танец блуждающих, словно звезды, раковин – это и есть вы, не придуманный, не отвердевший, а настоящий, изначальный, всамделишный.
А Авдотья сидела с белыми ногами на стуле и смотрела на брата холодно-жаркими серыми глазами.
– Надо было взять эти стихи, о которых она обмолвилась, – говорит она. – Впрочем, неважно. Я бы нашла такого человека, который пишет тебе стихи год за годом, даже если бы у меня не только ног, но и рук не было бы.
Она смеется. Но смех у нее деланый. Я вижу, что ей больно, только не понимаю, почему.
– Я, вероятно, еще как-нибудь загляну к ней, – говорит Филипп.
Нам приносят кофе, по запаху чувствуется, что хороший, но я кофе не пью и дожидаюсь чая.
Мне кажется, что у нас нет ни рук, ни ног, как у бутона розы. Бутону розы, для того, чтобы быть, не нужны руки и ноги. Медузе они не нужны и камню тоже. В определенных ситуациях руки и ноги – это лишнее, я бы даже сказал, нечто провинциально-преувеличенное. Недаром говорят, что руки бывают загребущие.
Мы сами могли бы сейчас стать такими волшебными раковинами – и Авдотья, и Филипп, и я. Стать парящими в синем воздухе раковинами радости, которые изменяют свою счастливую песню в зависимости от фигуры, которую они образуют, двигаясь в воздухе, ни на что, кроме тихого пения, не опираясь.
Мне кажется, что все в начале так и выглядело – только раковины, похожие на рот Авдотьи немного влажный от кофе, двигались и, в зависимости от мелодий, которые они извлекали своим движением друг из друга и из ниоткуда, они становились тем, что потом люди стали называть домом или деревом, или холмом, словом, любой вещью из тех, что нас окружают – от пеленок до креста на могиле. Только сначала, да и сейчас тоже, никаких могил не могло быть, потому что могилы, как и время, придумали люди, разучившиеся понимать язык раковин – свой собственный язык.
Я помню порог в коридоре одного монастыря и выставленные мужские ботинки у входа в келью. Не знаю почему, но меня тогда взяла жуткая тоска от этих ботинок, стоящий у дверей. Какая-то безысходность возникла. Зачем монаху выставлять ботинки у кельи, если он раковина. Но, наверное, он забыл, кто он такой, и все остальные забыли тоже. Вот мы и выставляем ботинки за дверь, а из них не прорастет сосна, не запахнет хвоей, ничего с ними не будет – будут себе там стоять, пока их не наденут на то, что человеку нужно еще меньше, чем язык.
– Хочу, – говорит Авдотья, – хочу. – И я вижу, как руки и белые ее ноги становятся все менее убедительными, призрачными, как ракушка ее тела выступает наружу, чтобы петь другим свои песни.
Люди – это когда ракушка жадничает, начинает чего то сильно желать, тянется схватить, и таким образом (а раковины до этого были всемогущими) возникает рука; или ракушке хочется самой испытать страх любви и ее невероятный крик, и тогда у нее возникают две ноги, и вьются волосы, и язык начинает быстро-быстро говорить – сначала лепетать, как младенец, а потом бормотать какую-то фальшь.
Мало кто сохранил в себе ракушку – Авдотья сохранила. Ее еще можно было иногда видеть. Но, в основном, раковины парящие в воздухе обратились в маски, разнесшие чудесную песню на множество твердых слов и обличий, и маски в театре, переговариваясь и страдая, до сих пор словно пытаются что-то вспомнить. А вспоминают они в течение всего представления музыку парящих ракушек и то, кем были люди и вещи, пока у них не было рук и ног, и если драматург велик, то с помощью актеров пьеса вспоминает людей, какие они есть на самом деле. И от этого многие плачут.
Так я иногда вспоминаю Авдотью.
А брата я вспомнил давно, потому что наши ракушки пели, не переставая. Ну, не скажу, что такая жизнь сказка. Я бы сказал, что кровь течет и течет, а боль и радость все равно переплетаются, и все же пение не умолкало. Если оно умолкнет, то…
Тут мне принесли чай. Я хотел попробовать, но он оказался слишком горячим.
Быки, и ракушки, и женщины. Вот что сбивает с толку. Куда вы ни глянете, вся история мира – это история отношений между быками, ракушками и женщинами. Я понимаю, что если бы я такое сказал вслух, то меня приняли бы за идиота. Поверьте, я знаю, что говорю. Но я перестал заводить разговор о таких вещах, говорить про это людям, у которых в голове бухает музыка, а таких большинство.
Зачем им говорить про быков и женщин. Все равно они ничего не поймут, проверено. Не потому что они сами олухи, а потому что их такими сделали, а они не особо возражали. Так что не стоит говорить ракушке, что она на самом деле ракушка, если она к этому не готова. Может решить, что вы издеваетесь или не в себе. Они много чего могут решить по этому поводу, но все сводится к одному – вам не место среди нормальных людей, отряда сапиенсов, который они с такой гордостью представляют.
Брат, вообще, говорит, чтобы я щадил людей и осторожно выбирал собеседника.
– Понимаешь, братец, не все видят вещи такими, какими их видишь ты. Не вторгайся в их мир с непонятными для них идеями, это агрессия. Просто постарайся проявить к ним и к себе сочувствие.
Стоит еще, конечно, подумать про тот сонет с лодкой и рыбаком, но мы сейчас собрались на пляж, велосипед Авдотья оставит здесь, и мы поедем на такси за город, где пляжи чище, чем здешние, да и народа там поменьше. Я не возражаю. Мне с ними хорошо, к тому же я с удовольствием поплаваю.
11
В тот вечер я впервые видел Авдотью пьяной.
Это было забавное зрелище, хотя и немного страшное. Мы вернулись с пляжей, где плавали и ныряли в прозрачной зелено-синей воде, через которую видно было дно с водорослями, а потом валялись под солнышком, и я лишний раз убедился, насколько Авдотья красивая девушка, потому что многие девушки красивы только в одежде, а она была красива и почти что голой, потому как раз, что по-настоящему голой, как, например, девушке-стриптизерше, ей не бывать из-за тихой внутренней подсветки, в которую она, как выяснилась, все время одета. Я и раньше это заметил, а сейчас с улыбкой думаю, что по ночам она светится, как стрелки на тех часах, которые набирают днем свет, а потом, ночью, отдают его назад какое-то время – это зависит от того фосфорного состава, которым эти стрелки покрыты. Так вот у Авдотьи состав был, что надо, и вечером я в этом убедился.
Мы сидели в баре с хорошей музыкой, а таких баров почти что и нет, и Авдотья взяла и напилась. Я сначала не понял, почему это она вдруг стала выглядеть как маяк. Не связал это с выпивкой. Она стала прямой и остолбеневшей, с остановившимся взглядом и какой-то безногой. Так она и перемещалась в пространстве.
Было такое впечатление, что она не ходит, а плавает и ни черта не видит из того, что происходит вокруг. Но здесь это никого не удивляло, кроме меня.
Филипп тоже был каким-то задумчивым и, как и она, ничего не видел. Я еще подумал, что, может быть, между ними что-то произошло, пока я плавал, а они оставались на берегу и о чем-то там горячо спорили, а потом замолчали и всю обратную дорогу в машине не сказали ни слова. Но это была только догадка, я в их личную жизнь старался глубоко не вникать, потому что это не очень хорошо – вникать в чью-то личную жизнь.
Внезапно она села рядом со мной и сказала:
– Послушай, братец! Мне нужен твой совет.
– Шутите? – сказал я. – Нашли с кем советоваться.
– Именно ты мне и нужен, братец, – сказала Авдотья, глядя сквозь меня неподвижными глазами. Ох, и хороша же она была – прямо красавица в стеклянном гробу!
– Ну, неважно, – добавила она. – Ты вот что мне скажи. Ну, насчет того-этого. Насчет отношений между мужчиной и женщиной – как ты их понимаешь, а? На кой ляд они вообще нужны?
Я, конечно, расстроился. Терпеть не могу выражений вроде «того-этого». Это мой недостаток, говорит Филипп. Если человек разговаривает неправильно или делает ошибки в простых словах, или ставит не там ударение – мне кажется, что он словно бы не так одет. Ну, словно бы у него на ногах старые носки, от которых воняет, и как бы он там ни умничал и ни острил, а все его шутки и весь его шарм теперь уже не могут этой вони перебить. А он о ней даже не догадывается, вот что интересно. Филипп несколько раз объяснял мне, что речь это не носки и даже еще и не человек как таковой но мне кажется, что на этот раз Филипп был неубедителен, а такое, надо сказать, случалось с ним крайне редко.
– Тебе вот, например, нужна девушка, дружок? – спросила Авдотья, глядя на меня неожиданно ясными глазами.
Я хотел отшутиться, но вдруг почувствовал, что говорю какую-то чепуху, которую, дураку ясно, стоит оставлять при себе, если не хочешь испортить все удовольствие от вечера.
– Слово «нужна» тут не подходит, – говорю я.
– А какое подходит, – спрашивает меня Авдотья.
– Либо случится, что я встречу ту самую девушку, с которой мы будем понимать друг друга, либо не случится.
– Ты какой-то старомодный, дружок, – неприятным голосом протянула Авдотья, – какой-то скучный. Разве не стоит в твоем возрасте быть попроще? Встречаться с девушками, потому что они нравятся, и все тут.
– Может, и так, – говорю я. – Каждый для себя решает.
– Сомневаюсь, – сказала Авдотья. – Она посмотрела в сторону танцующих. – Не думаю, что они что-то решают. Нет, не думаю. Живут себе, и все тут. Разве жизнь сама о них не позаботится? Зачем им что-то решать?
– Иногда нужно решать, – говорю я. – Иначе ты не человек.
– О! – говорит Авдотья. – О!
В руках у нее бокал, и она отпивает из него глоток.
– Значит, ты решаешь, кто тут человек, а кто нет, малыш? – спрашивает она.
– Да нет же, – говорю я. – Я про них не решаю. Я про себя решаю.
Я говорю тихо, словно стыдясь чего-то.
– Ладно, говорит она. – А в чем тогда ценность близости? Ну, ты понимаешь. Ценность секса.
– Мне кажется, это когда двое становятся одним единым, – говорю я и замолкаю. – Это когда без другого и тебя не существует.
Тут я одергиваю себя и благоразумно замолкаю. Я не готов говорить с ней про близость. Тут говорить особенно и не нужно, потому что слова ничего не скажут. Близость для того и нужна, что заменяет слова или даже их совсем отменяет, потому что включается другой язык, который не с языка и губ идет, а из-за ребра. Тихий такой, больше мира и даже больше его деревьев. Но это можно и по-другому описать, если, конечно, кто-то внимательно тебя слушает. И я не выдержал и решил сказать про это девушке.
– Я иногда вижу, – говорю я и чувствую, как меня трясет, – как вы с Филиппом глядите друг на друга. Это и есть близость. Только этот взгляд должен быть еще глубже. Таким глубоким, как ни у кого другого, как даже у вас самих не всегда выходит. Он, он… как простор без краев, который может вместить в себя все. Он, как арена с быками, – говорю я, зная, что бесполезно, – да арена.
Я продолжаю говорить и больше не слышу своих слов, потому что вижу арену с быками. Они крупные и тяжелые. Они тяжкие, как пианино, черные, с натянутыми внутри струнами, земля под ними проседает. Филипп и Авдотья смотрят друг на друга и высекают из окружения бесконечный объем, в котором и проявляются эти черные быки с красными высунутыми языками. Это как если бы снег не таял, а, наоборот, возникал на глазах, увеличиваясь и затвердевая, образуя разные предметы.
Я не сразу понял, почему там быки и где они, но они ходили и приглядывались друг к другу и к арене, словно не замечая тех, кто их создал встречным взглядом. Но потом я понял, что простор, в котором быки ходят, он есть сладкая смерть. Да. И она одна и та же, что сладкая жизнь. Но только сладкая жизнь может появиться, пока быки ходят в сладкой смерти, а ты ходишь между ними. Мы всегда ходим между кем-то. Кто-то между людей в метро, кто-то между девушек, кто-то между чужих мыслей, прочитанных в чужих книгах, кто-то между родителями или друзьями.
Но любовь это когда ходишь между быками в сладкой смерти.
Если есть тот, кто решится пойти вместе с тобой, то тебе повезло, ты сразу становишься сильней. Но ты становишься еще сильней, если никто с тобой не пойдет между быками, а тебя это все равно не остановит. И ты все равно пойдешь один за вас двоих в сладкую смерть, огибая черные бычьи морды, кованые, как старые чемоданы. Когда ты пошел между быками, то ты уже там, где ты умер. Потому что нет никого, кто вошел бы сюда и остался жив. И это все знают. Матадор, который хочет иметь дело с быками, как только выходит сюда, то уже умер и знает об этом. Но если ты умер как мужчина с быками, то ты и воскреснешь с быками как мужчина. Ваша кровь смешается и станет уже не кровью, а другим напитком. Не липким, жирным и соленым, а снегом. Сладким снегом детства, в котором смерть растворилась в маме, коте на печке и любимом лице.
Все это я сказал Авдотье, не видя ее лица, но, впустив всю ее в себя, словно бы мы и вправду с ней сблизились в любовной борьбе.
– Вот ты какой, дружок, – сказала она задумчиво после паузы. – Вот ты кто такой. Дай-ка, братец, я тебя обниму.
Голос у нее был хриплый, от нее пахло выпивкой, но она все равно светилась. И она обняла меня, ткнувшись носом мне в шею, и я вдохнул запах свежести и моря, идущий от ее волос.
– И куда это твой брат подевался? – отстранившись, сказала она, – ничего не понимаю.
12
В тот вечер Филипп так и не появился, а на следующий день мы встретились с ним у него в квартире. Когда я вошел, Филипп паковал чемодан. Увидев меня, он вздохнул, показал на стул и уселся в кресло.
– Вот и пришли к концу мои каникулы, – сказал он грустно. – На работу вызывают.
– Что-то срочное?
– Надо ехать, – сказал Филипп.
– Куда?
– В Сирию, кажется, неважно…
Вид у него был какой-то рассеянный. Он поглядел на меня, как будто увидел впервые, что-то вспомнил, встал, подошел и включил вентилятор. Лопасти слились в светлый круг, и поток воздуха растрепал мне волосы. Филипп направил вентилятор немного в сторону и сказал:
– Я был у той женщины.
Я не сразу понял.
– У Клавдии, – пояснил Филипп. – Клавии Петровны. Я к ней сегодня зашел попрощаться.
– Угу.
– Знаешь, она показала мне стихи. Это действительно шедевры. Это… это великолепные вещи. Их автор – поэт очень высокого уровня.
– Китаец? – спросил я. – Значит, до поломки он все же знал свое дело.
– Эти стихи совершенно живые, – сказал Филипп и зажег сигарету. – Они напоминают Шекспира, который заговорил бы на современном русском и думал бы как русский. И в них много юмора, вот что прекрасно. Кстати, там было одно стихотворение про красную куклу.
– Неужто? – обрадовался я. – Целое?
– Целое и законченное. Знаешь, оно оказалось по смыслу и композиции очень близко к тому, о чем ты тогда говорил.
– Значит, в Китайце сначала все же был ключ, был инструмент дешифровки, гармонии.
– Был, – сказал Филипп. – Но только этим ключом был человек. – Он разогнал рукой сизое облако дыма, и, попав в поток воздуха от вентилятора, дым стал разрываться сбоку и уноситься струйками к раскрытому окну.
– Что-то я не понял, – говорю. – О чем это ты?
– Китаец, скорее всего, так всегда и писал – выдавая бессвязные фрагменты. Однако последний его хозяин оказался способен превращать их в совершенные вещи. Но он не остановился на этом.
Филипп поморщился от дыма, аккуратно загасил окурок и добавил:
– Он посылал их той женщине, Клавдии, по несколько штук каждый месяц. И так месяц за месяцем и год за годом. Если подумать – одна морока.
Филипп наморщил лоб.
– Понимаешь, ведь она даже красивой не была. К тому же инвалид.
Было видно, что он мучается, словно у него что-то болит внутри, но я не мог понять, отчего.
– Кто она ему, а? Не проще ли было оставить все, как есть? – он посмотрел на меня чуть ли не с отчаянием, а потом внезапно улыбнулся.
– А мне понятно, – сказал я. – И тебе понятно. Чего тут непонятного?
– Эх, братец, – сказал Филипп, но заканчивать фразу не стал.
– Все тут понятно, – пробормотал я, но уже не так уверенно.
– Скажи, а ты запомнил хоть одно стихотворение? Можешь прочитать?
– Нет, не запомнил, – рассмеялся Филипп. – Удивился, что ты так угадал с красной куклой.
– Я не угадывал, – говорю я. – Я понял. Случайно вышло.
– Ладно, – он встал с места. Но тут же снова сел и растерянно взглянул на меня.
– Ей не нравится, что я не ем мяса и собираюсь изучать китайский, – сказал он.
Я не сразу понял, о ком шла речь. Но быстро сообразил.
– Мне показалось, что ее это раздражает.
– Что ты не ешь мяса?
– Да. Она говорит, что это странно.
– Что тут странного?
– Она говорит, что это выглядит как поза.
– Что за поза?
– Не знаю. Она говорит, что изучать китайский, чтобы прочитать стихи всего одного единственного человека, это неправильно.
– Почему?
– Она говорит, что это неправильная трата времени.
– Она просто не знает, с какой скоростью ты учишь языки. Я до сих пор не понимаю, как это можно выучить немецкий за две недели.
– Нет, братец, не в этом, мне кажется, дело. Она, кажется, не может понять, что я вообще никуда не спешу. Что спешить некуда, особенно если ты нашел стихотворение, которое тебе нравится или женщину, которую любишь.
Он встал и начал запихивать в чемодан какие-то тетрадки и сверху положил томик Камоэнса. Потом застегнул чемодан и поставил его на пол, длинной ручкой вверх.
– Когда ты вернешься?
– Думаю, командировка продлится недели две.
– А что Авдотья?
– Я говорил с ней. Позвонил по телефону.
– Что она сказала?
Я волновался. Я даже немного заикался от всех этих новостей.
– Расстроилась. Сказала, что любит, что будет ждать. Потом заплакала.
– Вот видишь, – сказал я.
– Вижу, – брат усмехнулся. – И добавил: – Мне кажется, что она боится.
– Чего она боится?
– Неважно. Давай-ка, братец, прощаться. Кажется, такси пришло.
Я выглянул в окно, внизу под магнолией стояла желтая машина.
– Как-то все это неожиданно, – сказал я. – Дай я хоть чемодан снесу, что ли.
Я взял чемодан за ручку и покатил его к двери. Мне было не по себе, ноги у меня дрожали, но я старался не обращать на это внимания.
13
«В детстве вещи приходили и уходили. Приходила мама, потом приходило дерево, потом поездка с бабушкой за настольной лампой и дорога с кипарисами. В течение дня мог прийти сосновый лес за бассейном, жук-носорог, облако – прийти и так же легко уйти. Не надо было хотеть или звать их – они приходили чистыми, бесшумными и незванными и уходили также незаметно, как приходили. Они приходили из того дружественного ниоткуда, что и ты, и уходили туда же.
Впрочем, незваными ли? Какой-то зов все же был. Тот самый, который звучал во всех вещах и в тебе самом. Тихий, незаметный, словно с радужным мерцанием по самым краям. Тихий поток, который нес тебя, вспыхнувший солнечный зайчик за окном, зеленое загадочное дно фонтана у остановки, запах подснежника.
Потом это исчезло. Вещи остались, но потеряли простую торжественность возникновения. И когда они приходили – ты уже знал, откуда они приходят, а когда уходили – знал, куда идут. И это знание делало вид, что оно и есть смысл вещей, пыталось заменить сами вещи и вытеснило в конце концов незнание детства, вместе с его всамделишным и смешным миром.
Не следует ли снова войти туда? Мне кажется, все настоящие мастера знали вход в детство – Моцарт, Андрей Рублев, Ли Бо, Колтрейн.
Зачем мы приходим сюда, в этот мир?
Один из ответов – воодушевить уток, чаек, дельфинов, жуков и муравьев.
Не воевать же, пробивая за счет своей и чьей-то еще жизни каналы для движения денег из одних рук в другие – впрочем, те же самые руки.
Может, мы приходим для того, чтобы запустить розового змея в небо или поваляться как следует на траве, глядя на облака.
Один чаньский наставник в ответ на вопрос ученика, в чем смысл просветленной жизни, сказал: встать рано утром, затопить печку, приготовить еду, сходить на рынок, поработать в саду. – И все? – спросил огорченный ученик. – Чем же тогда все это отличается от обычной жизни какого-нибудь невежественного ремесленника или крестьянина? – Ты будешь делать это, – добавил учитель – в единстве со всем миром, с каждой его песчинкой, с каждым криком кукушки, с каждым закатом и восходом, с любой звездой или червяком.
Мне кажется, что ответ учителя можно расценивать как отсыл к детству…»
Я сижу на кровати в номере и перечитываю записи брата. Мне понятен их смысл, и все же он все время словно ускользает от меня.
Днем мне позвонили из Москвы и сказали, что Филипп в больнице и что состояние его плохое. За те две недели, что мы расстались, мы всего два раза говорили по телефону. Он рассказывал о том, как ошеломлен древней скульптурой и живописью (скорее всего речь шла о Пальмире, как я догадался потом), у него был веселый голос, и он шутил по поводу множества собак на улицах. Он говорил, что надеется, что скоро мы снова будем купаться в море и выберемся куда-нибудь в горы, лучше пешком, – добавил он. Он спросил меня о Клавдии Ивановне.
Я был у нее неделю назад, но никого не застал – квартира была пуста, часть вещей исчезла, и какая-та женщина с пластмассовой бутылкой в руках объяснила мне, что Клавдия с неделю как померла, отмучилась, как она выразилась, а паразиты чиновники будут на днях ломать их дома.
Но когда брат спросил меня о Клавдии, я почему-то соврал. Сказал, что ничего не знаю. Не понимаю, зачем я это сделал. Наверное, не хотелось, чтобы он расстраивался. Я ведь знал, как он ценил свои отношения с Клавдией Петровной.
После звонка я сразу же заказал билет в Москву. Никогда не мог подумать, что Филиппа могут ранить. Я думал, что переводчики находятся в каких-то специальных помещениях, куда пули не долетают. Смешно, но это правда. Не знаю, почему я так думал. Наверное, из-за того, что я очень необразованный и мало знаю о конкретных вещах, с которыми в жизни не сталкивался, – о войне, например.