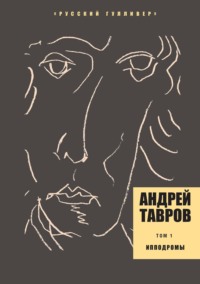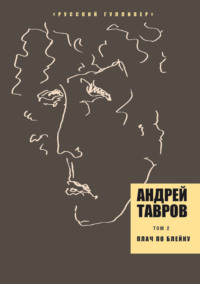Полная версия
И поднял его за волосы ангел
На месте Камоэнса, я бы только это и оставил – лодку с фонарем и дельфина, ну и еще, может быть, имя, которое он правильно сделал, что не стал называть. Но в его время писали много и подробно, и он по-другому не мог, и я сидел рядом с водителем и все думал о солдате Камоэнсе, как он, бежал в атаку, а осколок бомбы попал ему в глаз, и с этого все началось.
Я подумал, что для того, чтобы стать поэтом, надо, наверное, чтобы тебя сначала как следует изувечили, иначе тебе всю жизнь будет чего-то не хватать для хорошего стихотворения. Звучит смешно, но, кажется, это правда. Правда, вообще, звучит чаще всего смешно.
А потом я увидел, как на Камоэнса нападает бык. У быка было человеческое лицо, а Камоэнс сидел на арене прямо напротив ворот, из которых бык выбегает, как на одном из офортов Гойи. Только на офорте человек сидел, выставив вперед шпагу и опираясь на стул, а в моей картинке он балансировал на задних ножках стула и смотрел не на быка, а на кого-то на трибуне. И еще у человека на моей картинке вместо лица была бычья морда, только не грозная и свирепая, а какая-то задумчивая.
Быки это те же – шары из света. И в этих шарах ничего, кроме света нет. Но поскольку в них свет тот же самый, что и в вас, то можно сказать, что в каждом быке вы есть тоже. Вот почему люди всегда любили быков, все дело в том, что бык это, может быть, наша родина – Америка для Колумба или Гоа для Камоэнса, или например небесный Иерусалим для Христа.
Бык это те же одуванчики, как и любой предмет. Вот он чудовище, полное сил и мощи, с окровавленным загривком и с неуловимым и смертельным рогом, способным сокрушить кости любому противнику, но смотрите, что с ним делается дальше. Он, как и человек, постепенно обессиливает и становится все медленнее. Такое ощущение, что он превращается одновременно в неодушевленный предмет, а вместе с тем, в нем все больше жизни. И вот тут-то от него начинают отлетать маленькие парашютики, как от одуванчика, если на него сильно дунуть, только у этих на конце находится не семечко, а сам бык, но очень маленький и все равно живой.
И чем больше бык устает и чем больше из него вытекает крови, и ему уже ясно, что человека ему не достать, хоть, конечно, он все равно постарается это сделать, – тем больше он разлетается, как одуванчик, на других крошечных быков, которые разносят его словно семена по всем закоулкам арены. А часть их даже попадает вместе с дыханием в рот самому матадору или людям на лошадях, или даже в рот самой лошади, и тогда они могут его даже случайно проглотить, и он начинает жить в них совсем другой и все равно своей собственной, жизнью.
А человек на стуле, с бычьей грустной мордой, также разлетается на пушинки, распространяя себя все шире и шире навстречу быку и зрителям, но не потому, что он устал, а от другого чувства. Может, он хотел сказать девушке на трибунах имя, как тот рыбак, но не нашел его на языке или не выговорил из-за того, например, что захотел произнести его по-новому, как еще ни он сам и ни кто-то другой не произносил, – и тогда понял, что одним языком ему это заветное имя не выговорить, а можно сказать его лишь всем собой целиком.
И вот тут он и стал распадаться и разлетаться, как одуванчик, на себя самого, и его тоже стало много, и, разлетаясь во все стороны, он попадал в ноздри быкам и лошадям и в легкие людей, и даже летел за трибуны, за речку, попадал там в воду, и теченье несло его в Средиземное море или даже в Атлантику, где его глотали рыбы и дельфины.
Наверное, Камоэнс, когда писал свой сонет про рыбака, не стал произносить имя любимой женщины, потому что догадался, что тогда сам разлетится во все стороны и даже совсем исчезнет. А ведь это совсем разные вещи – страдать и убиваться на берегу, рядом с челноком, но при этом оставаясь самим собой и не теряя своего тела, или сказать это имя так, что разлетишься на тысячу частей, которые полетят неизвестно куда, потому что теперь не ты направляешь сам себя, а ветер и даже дыхание чужих людей.
И там, в моей картинке, я видел, как свет и крылатое семечко человека с бычьей мордой, а это теперь был Филипп, попало мне в рот, запершило, и я сглотнул и понял, что от любви и имени люди разлетаются. Что если влюбился по-настоящему, то таким, какой ты был до этого, ты остаться не сможешь, а либо будешь повторять неведомое имя на берегу моря, пока не отчаешься, либо отправишься в новую жизнь по городам и людям, себе не принадлежа и собой не владея.
Потом такси остановилось, и я услышал, как вокруг, в наступившей тишине, словно серебряные колесики, трещат цикады. Филипп протянул через мое плечо деньги водителю, и мы вышли из машины.
7
Нам туда, – сказала Авдотья, показывая в сторону горы, похожей на верблюда. – Пройдемся немного.
Грунтовая дорога вела вверх, а сбоку распахнулся гигантский амфитеатр долины, по краям которой были видны небольшие домишки, и на зеленом склоне там и тут паслись лошади, казавшиеся отсюда совсем крошечными. На той стороне горной чаши была прорублена просека, похожая на шов, внутри которого угадывались почти неразличимые отсюда мачты высоковольтной линии. Дальше долина ныряла вниз и вздымалась уже вдали синим гигантом – покатой горой с еле различимой радиовышкой на вершине, а за ней угадывалось далекое море. Отсюда оно казалось выцветшим, прозрачно-голубым и почти незаметным. Если б я не знал, что оно там есть, подумал бы, что это небо.
Мы пошли по каменистой дороге, что, петляя, забирала все выше и выше. По краям рос терновник, высились одичавшие яблони и орешник. С непривычки я сразу выдохся. Но уже успел спросить Филиппа про быков.
– Бык неуловим, – говорил Филипп. – Он может означать и мужчину, и женщину, и агрессию, и страдание, и морскую стихию, и саму землю. Он как никто связан со смертью. Он носит в себе столько жизни, что, убивая быка, люди умножают жизнь для себя на земле, вспомни корриды или танцы с быками на Миносе.
– Но быка-то они все равно убивают, – сказала Авдотья. – Печально, что для умножения жизни надо время от времени кого-то убивать.
– Ну, это и не убийство почти, – сказал Филипп. – Бык идет дальше своей невидимой дорогой.
– Думаешь, он идет дальше? – спросила Авдотья. – Она-то дышала почти что ровно, словно по паркету шла.
– Он всегда идет дальше, – сказал Филипп. – Он еще до своего рождения шел дальше. И после он идет дальше тоже. Иногда вместе с матадором, которого убил.
– Ты был в Испании?
– Недолго. Можно считать, что и не был.
– Не хотела бы я быть быком, – сказала Авдотья. – Она теперь тоже слегка задохнулась, было слышно. А я так еле тащил ноги.
– А тебе бы пошло, – сказал Филипп. – Ты была бы красивым быком. И несла бы себя на себе самой через воды Азии к цивилизованным странам.
– Не хочу, – сказала Авдотья. – Не хочу к цивилизованным странам. – И добавила. – Бык это слишком утонченно для меня, слишком хрупко. После твоего рассказа мне кажется, что все быки из стекла.
– Так оно и есть, – сказал Филипп. – Сквозь них видно то, что без них не разглядеть.
– Филипп, – прохрипел я – расскажи про плачущих женщин.
– Сейчас, – сказал Филипп, – сейчас. Сейчас я расскажу самое интересное про плачущих женщин…
– Пришли, – сказала Авдотья.
Впереди было небольшое озеро, и на его берегу стоял домик под зеленой крышей. Одну из его стен увивал плющ, а с другой стороны стояло несколько ульев и обшарпанный внедорожник. Вода в озере была мутно-голубой, но мне все равно понравилось. Наверное, потому что, когда я смотрел на озеро и домик с ульями, то видел не только их, но еще, как в воздухе между мной и озером шли куда-то бык с матадором. Матадор был печальный и с разрезанной штаниной – ее разрезали во время операции, когда пытались его спасти после удара рогом в бедро, а бык был большой и черный. Теперь они шли вместе и больше не кружили друг возле друга. Матадор еще не совсем пришел в себя, прихрамывал и опирался на холку быка. Ничего необычного в их появлении не было, они шли себе вперед довольно-таки буднично, примерно так, как ходят таджики за своими овцами в поселке пониже, или как сами овцы, или, например, лошади на склоне долины.
Но вокруг овец, лошадей и таджиков не было слабого сияния вроде зажженного на солнце спирта, а вокруг матадора и быка оно было. И вместе они казались одним существом. Не знаю почему, но со мной так бывает, что я иногда вижу два разных предмета как один и тот же. Например, летящую бабочку и дом, стоящий очень далеко от нее, или автобус с туристами и глаза пожилой армянки, или мужчину и женщину, которые друг друга никогда в жизни не видели и не увидят, а я знаю, что они одно существо, и от этого мне даже делается жутковато. Но радости, конечно, когда понимаешь, что они – одно, все равно больше.
И еще я почему-то вспомнил, что эмблемой автозаводов «Ламборгини» и самих автомобилей, которые они выпускают, служит изображение черного быка, но это к делу не относится, уверен. Впрочем, кто знает, что относится к делу, а что нет? Я же не роман пишу, не рассказ, а так, всякую всячину.
В домике жил двоюродный брат Авдотьи с женой. Ему было лет тридцать, плотный мужик среднего роста, в стильной цвета хаки рубашке. Я его не особо разглядывал. Постепенно выяснилось, что на пару с компаньоном из Москвы он решил поднять здесь производство чая – раньше тут был чайный совхоз, а потом заглох, но чайные кусты остались, и брат Авдотьи надеялся организовать прибыльный бизнес «самого северного чая в мире» – так он рекламировал свой продукт. Дом он купил у прежнего хозяина за какие-то гроши и жил в нем наездами с самой весны.
Все это он рассказал во время обеда на открытом воздухе. С ним рядом сидела жена, тоже плотная и красивая. Волосы у нее были забраны в пучок, и она все время говорила о поездке в Таиланд, которую они планировали на осень.
Солнце передвинулось, и теперь море стало темнее. Я сидел, пил домашнее вино и смотрел на море, пока Филипп и Сергей, так звали брата, о чем-то спорили – я не особенно вслушивался. Я смотрел, как темнеет море и в чашу долины внизу под нами вползает сизый туман. Он казался похожим на медленных змеев, ползущих вокруг гор, обволакивая их и наполняя долину сизыми и матовыми островами, которые то таяли, то расширялись, захватывая другие, медленно дрейфующие рядом, и тогда за ними уже не было видно ни деревьев, ни огней, которые зажигались внизу, в домиках у дороги. Я так ушел в это зрелище, что напрочь забыл, где нахожусь. Со мной такое бывает.
– …Пойдем, покажу, – сказал Сергей.
– И он, что, действительно, работает? – голос брата.
– Работает.
– Да ничего он не работает, – сказала жена Сергея, – поломался. – А как починить, никто не знает, какой-то детали не хватает.
– Пойдем, пойдем, братец, – шепнула мне на ухо Авдотья. – Затем сюда и ехали, очнись, приятель.
Мы пошли к темному хозяйственному сараю, внутри которого вспыхнул неяркий свет, это Сергей зажег лапочку. Там среди всякой рухляди, старых ящиков, покрышек и пыльных ватников, висящих на гвоздях, высилась статуя из дерева, величиной с человека. Пахло пылью и затхлостью.
– Вот он, – сказал Сергей. – Китаец.
Он подошел к статуе, пошуршал проводкой и воткнул вилку в розетку на стене. Внутри статуи что-то щелкнуло, зашумело, и внезапно зеленые ее глаза вспыхнули и открылись. Стала видна пыль на голове и лицо из темного дерева с широкими скулами и узкими глазами. Лицо мне понравилось, серьезное такое и сосредоточенное, будто бы он не просто китаец из дерева, а в этот момент думает про какую-то твою трудность и как ее решить. Такое редко бывает в статуях, что они тебе хотят помочь, а в нем это было сразу заметно. Мне он поэтому сразу понравился. Он сидел по-турецки, а на коленях у него было что-то вроде столика, на крышке лежали бумаги, и замерла деревянная рука с пером в пальцах.
– Сейчас, – сказал Сергей, – момент.
Он что-то поискал на спине у китайца, открыл крошечную дверцу и, видимо, нажал рычажок или кнопку. Рука механической куклы вздрогнула и пошла вдоль листа. Я видел, как из-под пера потянулись крошечные буковки довольно-таки разборчивого почерка. Не знаю, как другие, а я замер. Китаец писал. На меня это подействовало как сеанс гипноза. Я не мог шевельнуться, зато мне казалось, что я угадываю все слова, которые ложились на бумагу под рукой куклы, и я видел, что это стихотворение. Внезапно из нутра китайца послышался тихий звон колокольчиков, мелодичный и неторопливый. Движение руки прервалось, глаза мигнули и закрылись.
– Вот, – сказал Сергей, вынув исписанный листок из-под деревянной руки, – вот!
И он протянул листок Филиппу.
На листке было следующее:
Красная кукла входит к тебе……………снег ложится на берег озера,считает пульс у тебя на шее….Северный ветер, травы в инее,убитые солдаты……Зачем тогда в венке из розк теням не отбыл я…– Ну что, братец, – спросила меня Авдотья, – как тебе кукла? Смог бы такую собрать?
8
– А откуда она взялась? – спрашивал я Авдотью, когда мы ехали обратно в такси.
– Принадлежала прежнему хозяину, – сказала Авдотья.
Я чувствовал, что сейчас ей этот разговор неинтересен, потому что они сидели с братом на заднем сиденье у меня за спиной и, кажется, обнимались, но я все равно продолжал ее спрашивать, ничего не мог с собой поделать. Я очень разволновался почему-то в тот момент, когда китаец, дрогнув рукой, стал выводить строчки на пыльной бумаге, и до сих пор не мог успокоиться, я даже почувствовал, что меня время от времени знобит. Но это был приятный озноб. Не так, чтобы совсем приятный, но было в нем и что-то приятное тоже.
– А где он теперь, этот хозяин? – продолжал я допытываться, изо всех сил стараясь не обернуться к ним.
– Да кто ж его знает, – отвечала Авдотья. – Уехал куда-то. – Голос у нее был такой, словно она только что взобралась на пятый этаж и теперь задыхалась, хоть и стремилась не подавать вида, что воздуха не хватает.
– Так надо его найти, – сказал я. – Есть же какие-то концы.
– Угу, – промычала Авдотья.
– Этот Сергей говорит, что ключ потерян, что стихотворения, которые пишет Китаец – белиберда, потому что не хватает детали, декодера, расшифровщика отобранной информации на последнем этапе…
– Похоже на то, – говорит она.
– А мне кажется, что это просто такие стихи. И… они очень красивые, особенно про то, как входит красная кукла.
Я понимал, что мне давно пора замолчать, но продолжал говорить все подряд. Уж очень сильно на меня подействовал Китаец.
– Я как прочитал, что красная кукла входит, у меня, прямо в животе похолодело, я ее увидел, эту куклу. Такая с красным лицом, очень, очень красивая, без ног – она входит в двери домика у озера, как в пьесе дзёрури. И ее лицо, красное, как петушиный гребень, видит тебя всего, но не как другие, а как тебя никто не может видеть, кроме нее.
Таксист покосился на меня, но ничего не сказал, а я тут же про него забыл. Мне было важно рассказать то, что я понял про куклу с красным лицом.
– И ты лежишь там на кровати один и давно никого не ждешь, потому что запутался в мыслях, и дождь со снегом идет за окном, а тебе уже неважно, только одеяло сырое, а тут она входит, и она не просто кукла, а ее красное лицо как ответ сквозь твои мысли и твое желание перестать жить. И тут ты начинаешь видеть себя ее глазами и от этого чувствуешь радость, и как снег летит, и что все – живое, и ты тоже живой, потому что ты и есть родник, который бьет и играет, и делает все вокруг тебя живым – и дерево, и снег, и озеро, и даже эту куклу.
Тут я замолчал и стал думать про стихи и про красную куклу, но уже про себя. И еще я подумал, что, может, это был Камоэнс, который лежал там под сырым одеялом, – говорят, что последние годы он все больше лежал под сырым одеялом и вспоминал свою возлюбленную. И вот он лежал, одноглазый, нищий, почти что, в отчаянии, что у него как будто нет рук – всех этих боев, в которых он участвовал, зыбкой палубы под ногами, а главное, его любимой – ведь это и были его руки и ноги, а теперь он словно обрубок, словно у него только грудь и живот остались, а остального нет, вот я и думаю, могла эта красная кукла придти к Камоэнсу?
Дверь сзади хлопнула. Мы стояли перед моей гостиницей.
– Вылезай, – сказал Филипп, и я выбрался из такси.
– Знаешь, то, что ты сказал про стихи куклы интересно, но последние две строчки – это все-таки стихи Дельвига. А значит, какая-то деталь в автомате действительно сломана или ее там недостает. Поэтому мы видим на выходе одни обрывки и фрагменты, которые не могут сложиться в целое. И впрямь создается впечатление, что словно не хватает декодера, с помощью которого стихотворение могло бы проявиться в законченном виде. Одним словом, к шифру, который кукла выдает на бумагу, нужен ключ.
Надо же! Оказывается, он слушал мой бред в такси.
Я стоял и смотрел на Филиппа и на красное пятно от помады на его шее, и мне было за него обидно. Конечно, Авдотья очень красивая девушка, но она могла бы сказать ему, что у него пятно на шее от ее помады. Правда, может быть, в темноте сама не разглядела. Но как бы то ни было, а брат выглядел полным идиотом, рассуждая о Дельвиге и ключе к стихам с этим пятном. Я думал, сказать ему о помаде или нет, но решил не говорить. Тем более, что Авдотья ждала его на заднем сиденье, и они, видимо, отправлялись куда-то еще.
– Спасибо, дружок, за компанию, – донесся из темноты голос Авдотьи. – Уверена, что ты смог бы починить Китайца.
Я попытался различить ее лицо в темноте салона, но у меня ничего не вышло – видно было лишь бледное пятно в подсветке уличных ламп.
Я пошел к гостинице, нащупывая в кармане брюк сложенный вчетверо листок – стихи Китайца. Мне казалось, что стихотворение о красной кукле должно иметь еще какой-то смысл, который не понять ни брату, ни его девушке, пусть хоть в лепешку разобьются. Может быть, оно и написано с таким расчетом, что его поймет, как надо, только один человек. Хотя, конечно, если вдуматься, то все лучшие, стихи когда-либо написанные, написаны с тем же самым расчетом. Это всё вранье, что стихи понимают все. Ну, если даже и не все, то считается, что знатоки и любители поэзии уж точно их понимают. Чушь! Лучшие стихи понимает кто-то один. Причем, вовсе не тот, кто их написал. А тот, о ком они написаны.
9
Утром в гостиницу позвонил Филипп, сказал, что есть дело и предложил встретиться у железнодорожного вокзала. Через час я был на месте.
Оттуда мы пошли по одной из улиц, ведущей в сторону моря. С обеих сторон она была застроена дорогими ресторанами с зеркальными стеклами, глянцевыми бутиками с яркими витринами, стильными зданиями офисов. В лучах солнца все это горело, сверкало и переливалось, машины томились в пробках, бухая дикарской музыкой, а сверху сияло синее небо.
Напротив одной из витрин с манекенами, одетыми в нижнее белье, Филипп остановился в нерешительности и стал искать взглядом номер дома. Потом неуверенно толкнул почти незаметную дверь, расположенную между магазином нижнего белья и домом, в котором торговали фруктами.
Дверь подалась, и мы вошли внутрь. Сразу за дверью начинались трущобы. Контраст с солнечной улицей, с ее разодетыми туристами был ошеломительным. Минуту назад, глядя на витрины с ювелирными изделиями и дорогой обувью, я ни за что не догадался бы, что за ними сохранилась целая улочка, вернее, тупик, в котором живут люди. В щели между двух домов было сыро и сумрачно, под ногами лежали позеленевшие от времени кирпичи, какой-то полуголый мальчишка играл с собакой, и пахло кислятиной. Мне захотелось назад, к солнцу, к платанам и запаху молотого кофе из кафе, но Филипп уже поднялся на деревянное покосившееся крыльцо и толкнул дверь внутрь. Ненавижу такие места.
В темном коридоре Филипп постучал в одну из дверей, и мы вошли в темную комнатку, освещенную тусклой лампой торшера, и поэтому я сначала ничего не мог разобрать из обстановки, а потом увидел книжные полки, несколько репродукций на стенах, большой старый диван и лежащую на нем женщину в спортивном костюме. Я не сразу понял, что у нее не было ног, увидел через пару минут, когда глаза привыкли.
– Здравствуйте, Клавдия Петровна! Простите за вторжение, – вежливо обратился к женщине Филипп. – Мы вот по какому поводу. – И он протянул ей почтовый конверт.
Женщина, недоверчиво глядя на Филиппа, взяла конверт и поднесла к глазам.
– Господи, – сказала она, – господи! Откуда это у вас?
Я до сих пор помню эту картинку – Филиппа в тусклом свете лампочки, сгорбившегося над диваном и лицо пожилой женщины с круглыми и словно бы плачущими глазами, глядящими на Филиппа снизу вверх.
Потом, когда мы вышли на улицу, Филипп рассказал мне, что при прощании с хозяином он неожиданно получил в подарок несколько листков, исписанных рукой поэта-куклы и среди них обнаружил почтовый конверт, вероятно, попавший сюда случайно. Заглянув в него, он обнаружил письмо, в котором автор благодарила адресата за чудесное и, как она выразилась, очередное «волшебное» стихотворение, полученное в этом месяце, «пятнадцатое в году, я веду им счет. Если бы не эти стихи, освещающие мою жизнь с той ее стороны, что пока что способна ожить при их чтении, – писала дальше женщина, – я прекратила бы свое поганое существование, тем более что осталась сейчас, после смерти мамы, совершенно одна».
Филиппа письмо заинтересовало. Вероятно, оно было написано в то время, когда Китаец еще не сломался и его хозяин имел возможность месяц за месяцем отсылать своей корреспондентке «волшебные стихи», сочиняемые таинственным автоматом до тех пор, пока не пришла в негодность его ключевая деталь. Воспользовавшись обратным адресом на конверте, Филипп решил попытать счастья и разыскать его отправительницу.
Сейчас, в комнате, она рассказывала Филиппу что-то вроде своей истории. Точнее говоря, история складывалась словно наощупь из ее бессвязных, разваливающихся фраз. Иногда она начинала говорить чисто, но ненадолго. Она произносила слова с трудом, хриплым голосом и в сильном возбуждении. Мне показалось, что она была под действием какого-то препарата. Меня она, кажется, не заметила и говорила с Филиппом, глядя на него белыми плачущими глазами. Волосы у нее тоже была белые с желтизной, а руки тряслись. В комнате пахло уборной. Я устроился на табурете рядом со старой радиолой «Ригонда», из тех, что выпускали лет с тыщу назад, и старался не втягивать в себя воздух, но у меня это плохо получалось.
Дело в том, что Филипп, как это ни странно звучит, действительно умел уважать и любить людей, даже случайных собеседников. Человеку, с которым он общался, быстро становилось ясно, что он самый желанный из всех возможных собеседников этого красивого малого с участливой улыбкой и понимающими глазами. Самое смешное, что так оно и было. Второго, такого, как Филипп, я больше не видел. О нем теперь много болтают всякой чепухи, но никто не запомнил этой главной его особенности, даже дара – видеть тебя так, как будто вы с ним вместе прямо сейчас народились на свет и разглядываете друг друга (во всяком случае, уж он-то именно так тебя разглядывал), восхищаясь и радуясь тому, что это произошло и что вы оба оказались рядом, и это все, что вам нужно теперь в жизни.
Безногая женщина, лежащая на диване в нищей комнатке, сорок лет назад была студенткой одного из столичных вузов, очаровательной девушкой с румянцем во всю щеку, готовой танцевать до упаду всю ночь со своими многочисленными поклонниками. Училась она то ли в ГИТИСе, то ли во ВГИКе, снялась в фильме одного из тогдашних модных режиссеров, имя ее прогремело на всю страну. Слава пришла внезапно, как стук в ночи. Поклонники, фотосессии, выгодные предложения – все это стало естественным сопровождением на пути к следующему, казалось, еще большему успеху.
Вся ее жизнь изменилась в несколько секунд, когда прозрачным майским днем, летя на велосипеде с Ленинских гор навстречу цветущей набережной, она попала под колеса грузовика. Ей ампутировали ноги, зашили несколько ран и через месяц выписали. Друзья помогли ей добраться до родного города.
Несколько лет назад, после смерти матери, оставшись одна, она решила покончить с собой, но тут пришло первое письмо со стихами. Потом еще одно и еще.
– Это были необычные стихи, – сказала она. – Я таких еще никогда не читала. В них словно бы светили Луна и Солнце, словно бы улыбались и переговаривались. И было видно, что они живые, как и другие звезды. И про что бы ни были стихи, они всегда были тут – живая Луна и живое Солнце.
– Кто их писал? – спросил Филипп.
Женщина посмотрела на него, словно не понимая вопроса. Потом глаза ее прояснились, и она сказала:
– Он подписывался Тай Бо, и он попросил разрешения скрыть… свое настоящее имя. Мои письма забирал с Главпочтамта кто-то из его друзей. Я и писала на имя друга.
Я спросила, откуда он узнал мой адрес. Он ответил, что у нас много общих знакомых, но ему не хотелось бы их по ряду причин называть. А потом переписка внезапно оборвалась.