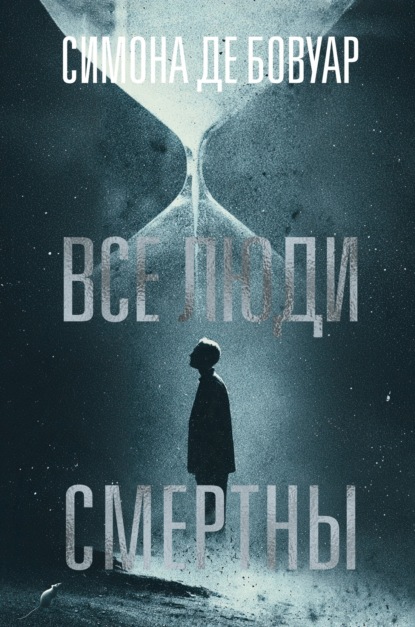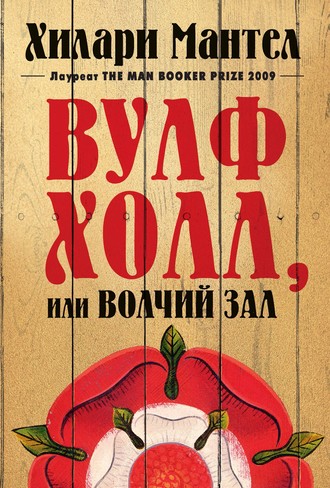
Полная версия
Вулфхолл, или Волчий зал
Кардинал откидывается в кресле и складывает пальцы:
– Томас. Томас Кромвель. Очень хорошо. Но отец Билни должен вернуться в Кембридж и оставить всякую мысль о поездке в Рим, чтобы направить папу на путь истинный. Подземелья Ватикана очень глубоки, туда не дотянуться даже мне.
Он чуть не говорит: «Вам даже до подвалов собственного колледжа не дотянуться», но вовремя прикусывает язык. Ересь – легкий ее налет – поблажка, которую дает своему слуге кардинал. Его милость не прочь выслушать отчет о последних вредных сочинениях и сплетни из Стил-Ярда, где живут немецкие купцы, обсудить после ужина текст-другой. Однако все спорное, прежде чем передать кардиналу, следует оплести тончайшей паутиной слов. Всякое опасное мнение надо так обложить шутливыми оправданиями, чтобы оно стало мягким и безобидным, словно подушка. Да, когда милорду сообщили о смерти в погребе, его милость даже всплакнул: «Как же я ничего не знал? Такие замечательные молодые люди!»
В последние месяцы у кардинала глаза на мокром месте, однако это не означает, что слезы менее искренни. Вот и сейчас его милость смахивает слезинку, поскольку знает всю историю: Маленький Билни в Грейз-инн, поляк из Штеттина, сбитые с толку посланцы, растерянные дети, лицо Элизабет Кромвель, застывшее в посмертной суровости. Кардинал подается вперед и говорит:
– Томас, пожалуйста, не отчаивайтесь. У вас есть дети. И не исключено, что со временем вы захотите жениться снова.
Я – ребенок, думает он, которого нельзя утешить. Кардинал накрывает его руку своей. Драгоценные камни поблескивают, являя таинственные глубины: гранат словно кровяной пузырь, бирюза с серебристым налетом, алмаз с желтовато-серой искрой, как глаз кошки.
Он никогда не расскажет кардиналу про Марию Болейн, как бы порой ни тянуло. Кардинал может посмеяться, может возмутиться. Надо как-то протащить общее содержание без контекста.
Осень 1528 года. Он при дворе по кардинальским делам. Мария бежит к нему, приподняв юбки, так что видны зеленые шелковые чулки. Не сестра ли Анна за нею гонится? Он ждет.
Мария резко останавливается:
– Ах, это вы!
Он и не думал, что Мария Болейн его знает. Она хватается одной рукой за стенную панель, другой – за его плечо, будто он часть стены. Мария по-прежнему обворожительна: белокурая, пухленькая. Она запыхалась от бега.
– Мой дядя… сегодня утром. Мой дядя Норфолк. Метал в вас громы и молнии. Я спросила сестру, кто этот ужасный человек, и она сказала…
– Тот, кого не отличить от стены?
Мария отдергивает руку. Смеется, краснеет, силится раздышаться, грудь под платьем ходит ходуном.
– На что сетовал милорд Норфолк?
– О… – Она начинает обмахиваться рукой. – Он сказал, кардиналы, легаты, от них в Англии никакой жизни. Он сказал, кардинал Йоркский разоряет знатные семейства: хочет править сам, а лорды чтобы дрожали, как мальчишки, которых могут в любую минуту выпороть. Разумеется, вам необязательно меня выслушивать…
Мария выглядит такой хрупкой… Она еще не отдышалась, но он взглядом просит ее продолжать.
– Мой брат Джордж тоже бушевал. – Смешок. – Мол, кардинал Йоркский родился в приюте для бедных и взял себе на службу человека, который родился в канаве. Милорд мой отец сказал, милый мальчик, ты ничего не потеряешь, если будешь строго придерживаться истины: не в канаве, а в пивоварне, ибо он определенно не джентльмен. – Мария отступает на шаг. – А вы похожи на джентльмена. Мне нравится этот серый бархат, откуда он?
– Из Италии.
Теперь он уже не стена, а кое-что получше – Мария вновь кладет руку ему на плечо, рассеянно гладит ткань.
– А не могли бы вы раздобыть мне такой же? Впрочем, наверное, для женщины такой цвет мрачноват?
Она не сказала «для вдовы», думает он, однако мысль, видимо, отражается на его лице, потому что Мария говорит:
– Да, конечно. Уильям Кэри умер.
Он склоняет голову и тщательно подыскивает слова – Мария его пугает.
– Двор о нем скорбит. Как и вы.
Вздох.
– Он был добрый. Учитывая обстоятельства.
– Вам, наверное, приходилось нелегко.
– Когда король перенес свое внимание на Анну, он думал, будет как во Франции. Думал, она согласится… занять некое положение при дворе. И в его сердце, как он выразился. Обещал порвать со всеми другими любовницами. Письма, которые он писал ей собственной рукой…
– Вот как?
Кардинал говорит, короля ни за что не убедишь написать письмо. Даже другому королю. Даже папе. Даже если от этого зависит успех дела.
– Да, с прошлого лета. Он пишет и там, где стояло бы «Henricus Rex»… – Мария берет его руку и рисует пальцем на ладони. – Вместо подписи он рисует сердце, а внутри сердца – инициалы, его и ее. Ой, не смейтесь… – Она сама невольно улыбается. – Он говорит, что страдает.
Ему хочется сказать, Мария, а нельзя ли выкрасть для меня эти письма?
– Сестра говорит, здесь не Франция, а я не такая дурочка, как ты, Мария. Она знает, что я была любовницей Генриха и он меня бросил. Отсюда она извлекла урок.
Он задерживает дыхание, но ее уже не остановить – она решила выговориться во что бы то ни стало.
– Я вам скажу, они поженятся, чего бы это ни стоило. Дали друг другу такую клятву. Анна говорит, что выйдет за него и гори они все синим пламенем, Екатерина с ее испанцами. Генрих всегда получает, что хочет, и Анна тоже, можете мне поверить – уж я-то их знаю, как никто. – В глазах у нее блестят слезы. – Вот почему я горюю по Уильяму Кэри. Она теперь всё, а меня надо вымести после ужина, словно солому с пола. Отец говорит, я нахлебница, а дядя Норфолк называет меня шлюхой.
Как будто не он вас такой сделал.
– У вас нехватка в деньгах?
– О да! – говорит Мария. – Да, да, да, и никто не хочет об этом думать! Вы первый, кто спросил. У меня дети. Вам это известно. Мне нужно… – Губы у нее дрожат, и она прижимает к ним палец, чтобы унять дрожь. – Вы видели моего сына… как по-вашему, почему я назвала его Генри? Король мог бы признать его, как признал Ричмонда, но моя сестра не разрешила. Он во всем ей потворствует. Она намерена сама родить ему принца и не хочет, чтобы рядом был мой.
Кардиналу докладывали: сын Марии Болейн – здоровый золотисто-рыжий мальчуган с отменным аппетитом. У нее есть и дочь, постарше, но в данном случае дочери никого не интересуют.
– Сколько лет вашему сыну, леди Кэри?
– В марте будет три. Моей дочери Кэтрин – пять. – Она испуганно прикрывает рукой рот. – Ой, я и забыла, что у вас умерла жена. Как я могла?
Да откуда вам вообще знать, удивляется он, но она тут же отвечает:
– Про людей кардинала Анна знает все. Она задает вопросы и записывает ответы в книжечку. – Мария поднимает на него глаза. – А дети у вас есть?
– Да… а знаете, у меня ведь тоже никто до вас этого не спрашивал. – Он прислоняется плечом к стене, Мария подступает чуть ближе, и, может быть, их лица немного мягчеют – двое заговорщиков, объединенные болью утрат, на мгновение сбрасывают маску несокрушимой стойкости.
– У меня взрослый мальчик, в Кембридже, с наставником. И маленькая девочка, по имени Грейс, она хорошенькая и белокурая, в отличие от меня… Моя жена была не красавица, а я таков, каким вы меня видите. И еще у меня есть дочь Энн. Она хочет учить греческий.
– Бог ты мой!.. Для женщины это…
– Да, но она говорит: «Почему дочке Мора можно, а мне нельзя? За что ей такая преференция?» Она знает множество умных слов и все их использует.
– Она ваша любимица.
– С нами живут ее бабушка и моя свояченица, но это не… для Энн это не самое удобное. Мне следовало бы отдать ее в другой дом, да только… ну, греческий… и вообще, я и так ее почти не вижу. – Ему кажется, что он уже давно не говорил так долго, разве что с Вулси. – Ваш отец должен обеспечивать вас как подобает. Я попрошу кардинала с ним побеседовать.
Кардиналу понравится, думает он про себя.
– Однако мне нужен новый муж. Чтобы меня не обзывали всякими словами. Кардинал может раздобыть женщине мужа?
– Кардинал может все. Какого мужа вы хотите получить?
Мария задумывается.
– Чтобы он заботился о моих детях. Защищал меня от родных. И не умер.
Она сводит пальцы.
– Вам следовало добавить: молодого и красивого. Кто не просит, тот не получает.
– Правда? Мне в детстве внушали другое.
Коли так, вам внушали не то же самое, что вашей сестре, думает он.
– В придворном спектакле, помните, в Йоркском дворце… вы были Красотой или Добротой?
– Ой, – смеется она, – это было семь лет назад, я и не помню. Я кем только не наряжалась.
– Вы по-прежнему и красивы, и добры.
– Я тогда только об этом и думала: как бы нарядиться. А вот Анну помню. Она была Упорством.
Он говорит:
– Этой ее главной добродетели предстоит трудное испытание.
Кардинал Кампеджо приехал из Рима с указанием тянуть время. Делайте что угодно, ищите любые поводы для отсрочки, но не выносите окончательного решения.
– Анна все время что-нибудь пишет – или письма, или у себя в книжечке. И ходит – взад-вперед, взад-вперед. Когда она видит милорда отца, то поднимает руку, мол, не заговаривайте со мной, а когда видит меня, то щиплет. Вот так… – Мария пальцами левой руки показывает в воздухе, как сестра ее щиплет. Потом гладит себя по горлу, отыскивая пульсирующую ямочку над ключицами. – Вот сюда. Иногда у меня остаются синяки. Она хочет меня изуродовать.
– Я поговорю с кардиналом, – обещает он.
– Поговорите. – Мария ждет.
Ему надо идти. У него дела.
– Я больше не хочу быть Болейн, – говорит она. – Или Говард. Признай король моего сына, все было бы иначе, а так я больше не хочу балов и спектаклей с переодеванием в Добродетели. Нет у них никаких добродетелей, одно притворство. Раз они не желают меня знать, и я не хочу иметь с ними ничего общего. Лучше я буду побираться…
– Полноте, леди Кэри, в этом не будет нужды.
– А знаете, чего я хочу? Мужа, который задаст им страху. Я хочу выйти за человека, которого они боятся.
Голубые глаза вспыхивают внезапной мыслью. Мария кладет тонкий пальчик на приглянувшийся ей серый бархат и тихо произносит:
– Кто не просит, тот не получает.
Заполучить Томаса Говарда дядей? Томаса Болейна – тестем? Короля, со временем, свояком?
– Они вас убьют, – говорит он, чувствуя, что объяснять ничего не нужно.
Она смеется, закусывает губу:
– Конечно. Конечно убьют. О чем я думаю! В любом случае спасибо за то, что вы уже для меня сделали. Подарили мне целое спокойное утро – потому что, когда они ругают вас, они не ругаются на меня. Когда-нибудь, – продолжает Мария, – Анна пригласит вас поговорить. Она пошлет за вами, и вы будете польщены. Она спросит совета или поручит вам какое-нибудь мелкое дело. Так вот, пока этого не произошло, выслушайте от меня совет: развернитесь и быстро идите в другую сторону.
Она целует кончики пальцев и прикладывает их к его губам.
Сегодня он кардиналу не нужен, поэтому едет домой в Остин-фрайарз. Главное желание – оказаться как можно дальше от всех Болейнов, сколько их ни есть. Некоторых, возможно, пленила бы женщина, спавшая с двумя королями, но только не его. Он думает про Анну – с какой стати ей его приглашать? Возможно, у нее какие-то сведения от тех, кого Томас Мор зовет «вашим евангелическим братством», хотя странно: Болейны не слишком заботятся о спасении души. У дяди Норфолка, который ненавидит всякую мысль и вряд ли хоть когда-нибудь заглядывает в книги, для этой цели есть священники. Брат Джордж любит женщин, охоту, наряды, драгоценности и теннис. Сэр Томас Болейн, обворожительный дипломат, интересуется только собой.
Ему хочется рассказать кому-нибудь о встрече с Марией, но рассказывать никому нельзя, и он делится только с Рейфом.
– Думаю, вы неправильно поняли. – Слушая про сердце с инициалами, Рейф широко распахнул голубые глаза, но даже не улыбнулся. Историю с предложением брака юноша находит неправдоподобной. – Она наверняка имела в виду что-то другое.
Он пожимает плечами: как тут еще можно понять?
– Герцог Норфолкский нас бы с костями съел, – качает головой Рейф. – Прискакал бы сюда и поджег наш дом.
– Но щипки? От них какая защита?
– Доспехи, больше ничего, – отвечает Рейф.
– Могут пойти пересуды.
– А никто не смотрит нынче на Марию Болейн, – говорит юноша и добавляет укоризненно: – Кроме вас.
С приездом в Лондон папского легата квазикоролевский двор Анны Болейн распадается. Король не хочет путаницы: Кампеджо здесь по вопросу его брака с Екатериной, никак не связанного, настаивает король, с чувствами к леди Анне. Анна уезжает в Хивер и забирает с собой сестру. В Лондон просачиваются слухи, что Мария беременна. Рейф спрашивает: «При всем уважении, хозяин, вы точно только к стене прислонялись?» Родственники покойного мужа утверждают, что ребенок не его; король, по собственным словам, тоже ни при чем. Печально видеть, как охотно многие решают, что король лжет. Как-то приняла новость Анна? В глуши у нее будет много времени позлиться. «Она исщиплет Марию до синяков», – замечает Рейф.
Все вокруг пересказывают ему сплетню, не зная, насколько близко она его затрагивает. Он опечален и думает: что это за порода такая, болейновская? Все происшедшее между ним и Марией видится и слышится теперь совершенно иначе. Мурашки бегут по коже при мысли, что, поддайся он тогда на лесть, скажи «да», вскоре он стал бы отцом ребенка, не похожего на Кромвелей, но очень похожего на Тюдоров. Уловка, конечно, отменная. Мария, несмотря на кукольную внешность, отнюдь не дурочка. Когда она бежала по галерее, показывая зеленые чулки, ее цепкий взгляд выискивал жертву. Люди для Болейнов – вещь, которую можно использовать и выбросить. Им нет дела до чужих чувств, имени, репутации.
Смешно. Как будто у Кромвелей есть имя. Или репутация, которую нужно беречь.
Слухи слухами, однако ничего не происходит. Возможно, Мария ошиблась или ее оклеветали по злобе: видит Бог, Болейнов есть за что не любить. Или беременность была, но закончилась выкидышем. Сплетни утихают. Ребенка нет. Это почти как в тех странных сказках, которые так любит кардинал, где природа извращена, а женщины-змеи исчезают и появляются по собственному желанию.
У королевы Екатерины тоже был ребенок, который исчез. В первый год брака с Генрихом у нее случился выкидыш, но врачи говорили, что она носит двойню. Кардинал отлично помнит ее в ослабленном корсете и с загадочной улыбкой на лице. Какое-то время ее не видели, затем она вновь появилась – туго зашнурованная, с плоским животом и без ребенка.
Наверное, это что-то специфически тюдоровское.
Некоторое время спустя он слышит, что Анна взяла под свою опеку Генри Кэри. Интересно, не собирается ли она отравить племянника. Или съесть.
Новый 1529 год. Стивен Гардинер в Риме угрожает папе Клименту от имени короля; содержание угроз кардиналу не сообщают. Климент и в лучшие-то времена довольно пуглив; неудивительно, что, когда мастер Стивен дышит серой ему в уши, он заболевает. Из Рима доносят, что папа при смерти; агенты кардинала по всей Европе прощупывают почву и закидывают крючки, бодро позвякивая монетами в кошельках. Если Вулси станет папой, все королевские затруднения разрешатся в одночасье. Кардинал легонько ворчит: его милость любит свою страну, майские гирлянды, щебет птиц и с ужасом думает о приземистых злобных итальянцах, лесах из виселиц, усеянных трупами равнинах.
– Вам придется поехать со мной, Томас. Вы будете стоять рядом и действовать быстро, если какой-нибудь кардинал попытается меня заколоть.
Он представляет своего господина, утыканного кинжалами, как святой Себастьян – стрелами.
– Почему папа должен жить в Риме? Где это сказано?
По лицу кардинала медленно расплывается улыбка.
– Перенести Святой престол сюда? Отличная мысль! А почему бы и нет? – Вулси любит смелые планы. – В Лондон, наверное, не удастся. Будь я архиепископом Кентерберийским, я бы мог держать свой папский двор в Ламбетском дворце, но старый Уорхем невероятно живуч… вечно он у меня на пути.
– Ваша милость может переехать в собственную епархию.
– Йорк слишком далеко. А что, если Винчестер? Древняя столица Англии. И к королю близко.
Очень интересно получится. Король ужинает с папой, который в то же время его лорд-канцлер… Должен ли будет король подавать его святейшеству салфетку?
Когда приходит известие о выздоровлении Климента, кардинал никак не выказывает разочарования, только говорит: Томас, что нам делать дальше? Надо открывать суд легатов[27], больше тянуть нельзя. Разыщите и доставьте мне человека по имени Антони Пойнс.
Он стоит, скрестив руки, и ждет более внятных указаний.
– Пойнс, скорее всего, на острове Уайт. И еще привезите сэра Уильяма Томаса, – думаю, его можно найти в Кармартене. Он стар, так что велите своим людям ехать не торопясь.
– Я не держу людей, которые мешкают. – Он кивает. – Впрочем, я понял. Не уморить свидетеля по дороге.
Суд по важнейшему королевскому вопросу близится. Генрих намерен доказать, что королева Екатерина, когда он на ней женился, была уже не девственница, то есть ее с Артуром брак осуществился. Для этой цели собирают джентльменов, бывших при августейшей чете после свадьбы в Байнардском замке, затем в Виндзоре, куда двор переехал в ноябре того года, и, наконец, в Ладлоу, куда молодых отправили играть в принца и принцессу Уэльских. «Артур, – говорит Вулси, – был бы сейчас примерно ваших лет, Томас». Свидетели по меньшей мере на поколение старше. Да и столько лет прошло – двадцать восемь, если быть точным. Что они могут помнить?
Не следовало доводить до такого публичного непотребства. Кардинал Кампеджо умолял Екатерину склониться перед королевской волей, признать брак недействительным и уйти в монастырь. Конечно, любезно отвечала она, я стану монахиней. Если король станет монахом.
Тем временем Екатерина приводит обоснования, почему легаты не должны разбирать этот вопрос. Во-первых, он по-прежнему на рассмотрении в Риме, во-вторых, она чужая в чужой стране, утверждает королева, забыв, что два десятилетия кряду ничто в английской политике не происходило без ее участия. Судьи, по уверениям королевы, настроены против нее; в этом есть определенный резон. Кампеджо, положа руку на сердце, клянется, что будет судить по чести, пусть даже рискуя головой. Екатерина находит, что он слишком близок со вторым легатом; всякий, проводящий столько времени с Вулси, считает она, забыл, что такое совесть.
Кто советует Екатерине, как вести себя в суде? Джон Фишер, епископ Рочестерский.
– Знаете, за что я его терпеть не могу? – спрашивает кардинал. – Он весь – кожа да кости. Ненавижу тощих прелатов. Рядом с ними мы, остальные, выглядим такими земными!
В полном блеске земного великолепия, в лучшем багряном облачении – кардинал заседает в Блекфрайарз, где король с королевой должны предстать перед легатами. Все думали, что Екатерина пришлет своего представителя, однако она является сама. Собралась целая коллегия епископов. Король, когда выкликают его имя, отзывается громко, раскатисто, во всю мощь широкой, усыпанной самоцветами груди. Он, Кромвель, посоветовал бы другое: отвечать тихо, склонив голову перед судьями. Смирение, на его взгляд, чаще всего бывает притворным, но именно притворщики нередко выигрывают в суде.
Зал набит битком. Они с Рейфом – зрители в дальних рядах. После выступления королевы, заставившего некоторых прослезиться, они выходят на улицу.
Рейф говорит:
– Будь мы ближе, мы бы видели, смел ли король смотреть ей в глаза.
– Да. Это, собственно, главный вопрос.
– Мне очень стыдно, но я верю Екатерине.
– Тсс. Не верь никому.
Что-то заслоняет свет. Это Стивен Гардинер, черный, с кривой усмешкой на лице: поездка в Рим явно не пошла на пользу его характеру.
– Мастер Стивен! Как прошел обратный путь? Ну да, конечно, всегда неприятно возвращаться с пустыми руками. Мне вас очень жаль. Я уверен, вы старались как могли.
– Если король не получит в суде чего хочет, вашему господину конец. И тогда жалеть придется вас.
– Только вы не станете.
– Не стану, – соглашается Гардинер и отходит.
Екатерина не возвращается на вторую, позорную часть слушаний. Вместо нее выступает представитель: она сообщила духовнику, что Артур за время брака так и не сумел ею овладеть, и теперь разрешила нарушить тайну исповеди, дабы предать эти сведения огласке. Она свидетельствовала перед высшим судом, судом Божьим: стала бы она лгать, обрекая душу на погибель?
Есть и другой момент, о котором все помнят. После смерти Артура Екатерину предлагали женихам – старому королю и принцу Генриху – как сохранившую девство. Можно было пригласить врача, чтобы тот ее освидетельствовал. Она бы испугалась, заплакала, но покорилась чужому человеку с холодными руками; возможно, теперь она жалеет, что этого не произошло. Однако никто такого не потребовал, – быть может, в ту пору люди еще не совсем потеряли стыд. Разрешение на брак с Генрихом предусматривало оба случая: и наличие девства, и его отсутствие. Испанские документы отличаются от английских. Этим нам и следовало бы сейчас заниматься: разбирать подпункты, а не грызться в суде из-за клочка кожи и капли крови на простыне.
Будь он советником Екатерины, он удержал бы ее в суде, как бы она ни противилась. Посмели бы свидетели сказать ей в лицо то, что говорили за глаза? Ей было бы стыдно смотреть на них, седых, морщинистых и совершенно уверенных в своей памяти, но он бы убедил ее приветствовать их ласково, объявить, что она в жизни бы их не признала, полюбопытствовать, как их внуки и меньше ли в летнюю жару болят суставы и поясница. Им было бы еще стыднее; очень может быть, что они замялись бы, оробели под ее пристальным честным взглядом.
Без Екатерины суд превращается в непристойный фарс. Граф Шрусбери, соратник старого короля по Босворту, рассказывает про свою первую брачную ночь, когда ему, как и Артуру, было пятнадцать; граф говорит, что никогда до тех пор не знал женщины и тем не менее исполнил свой долг. На свадьбе Артура они с графом Оксфордским провожали принца в спальню Екатерины. Да, говорит маркиз Дорсетский, и я там тоже был; Екатерина лежала под одеялом, принц возлег с нею. «Никто не готов присягнуть, что залез в постель вместе с ними, – шепчет Рейф. – Но может, еще и такой найдется».
Суд должен также принять во внимание свидетельства о том, что было произнесено на следующее утро. Принц вышел из супружеской спальни и сказал, что хочет пить. Приняв у сэра Антони Уиллоби кубок с элем, он объявил: «Сегодня ночью я побывал в Испании». Грубую мальчишескую шутку вытащили на свет, хотя сам мальчишка уже три десятилетия как в могиле. До чего же одиноко умирать молодым, идти во тьму без друзей и сверстников! А теперь уже нет в живых ни Мориса Сент-Джона, который покоится в Вустерском соборе, ни мистера Кромера, ни Уильяма Вудолла – никого из тех, кто слышал, как принц сказал: «Государи мои, хорошо мне с моею женой».
Выслушав это все, они выходят подышать воздухом, и ему ни с того ни с сего вдруг становится зябко. Он прикладывает руку к лицу, трогает скулу. Рейф говорит:
– Какой жених выйдет наутро и скажет: «Добрый день, государи мои! Ничего не получилось»? Принц ведь просто хвастал, правда? Вот и все. Они забыли, что значит быть пятнадцатилетним.
В то самое время, когда заседает суд легатов, король Франциск в Италии проигрывает битву. Папа Климент готовится подписать новый мирный договор с императором – племянником Екатерины. Еще не зная этого, он говорит Рейфу: «Позорный день. Если мы хотели стать посмешищем для всей Европы, нам это удалось».
Загвоздка с Рейфом: мальчик не может вообразить, чтобы кому-то, даже пылкому пятнадцатилетнему юнцу, захотелось овладеть Екатериной, – это все равно что совокупиться со статуей. Само собой, Рейф не слышал, как Вулси расписывает былые прелести королевы.
– Я воздерживаюсь от окончательного суждения. И судьи воздержатся – у них просто не будет другого выхода, – говорит он. – Тут мы все тебе уступаем. Я вот тоже не помню, каким был в пятнадцать.
– А вам разве не столько было, когда вы прибыли во Францию?
– Наверное, что-то около того.
Вулси сказал: «Артур был бы сейчас примерно ваших лет, Томас». Он вспоминает женщину в Дувре, прижатую к стене: ее хрупкие кости, бледное молодое лицо – и внезапно пугается. Что, если кардинальская шутка – вовсе не шутка и в мире полно его детей, о которых он не заботится? Единственное честное, что ты можешь сделать, – позаботиться о своих детях.
– Рейф, – говорит он, – ты знаешь, что я не составил завещания. Обещал, да так и не собрался. Едем домой, будем его писать.
– Но почему сейчас? – изумляется Рейф. – Вас ждет кардинал.
– Едем домой. – Он берет Рейфа за плечо и чувствует прикосновение бесплотных пальцев к своей левой руке. Это Артур, серьезный и бледный. Король Генрих, думает он, ты разбудил призрака; ты его и уйми.