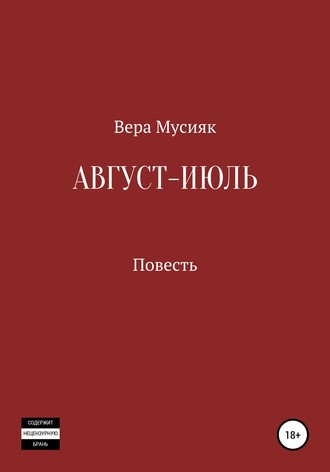 полная версия
полная версияАвгуст – июль
Она сразу полюбила Катю, и эта любовь была исчерпывающе понятной, блаженно легкой: так можно полюбить город, залитый светом, пышущий морем, – город, в котором для тебя всегда открыта старая квартира с чистыми простынями; в котором никогда не помнишь ни про время, ни про деньги; в котором стены, покрытые надписями, говорят тебе о самом главном. Аня исходила все улицы в этом городе, стекла в домах дребезжали от ее смеха, а лавочки в парках иногда заливались ее слезами. Но сейчас эта метафора казалась неуместной и беспомощной, и Катя, со своей обезоруживающей телесностью, мучила сердце, не умещалась в сознании; в животе как будто что-то разрывалось и растекалось горячей лужицей. Аня растерянно осознавала новые обстоятельства, она не могла и не хотела давать название этим удивительным чувствам: с одной стороны, ужасно было всё так осложнять, а с другой – она еще никогда не чувствовала себя такой наполненной, такой счастливой. Скоро суббота, а там – медовый свет, запах яблок, фарфоровый стук посуды и зеленые глаза с красными точками.
На неделе Катя, возмущенная количеством свалившихся на нее дополнительных смен, стала рыться в столе, искать у себя конспекты по трудовому праву. Потревоженные тетради Екатерины Фишман ворчливо шелестели клетчатыми листами; трудового права всё не было. Выскочила какая-то незнакомая: на обложке поле с коровами, надпись «I love summer». Катя пролистала: странные символы – и не латиница, и не кириллица, – каким-то чудом сведенные в систему. Секунда – и внутри что-то порвалось и стремительно полетело вниз. Конечно, это была тетрадка Лизы: по старославянскому языку или еще по чему-нибудь малопонятному и чужеродному. Катя пыталась вспомнить, откуда эта тетрадка могла появиться у нее, в этом ящике, забитом практичными и сухими юрфаковскими лекциями, – и ничего не могла понять. Она пролистала конспект: какие-то «яти» и «фиты», выведенные знакомой теплой рукой. На последней странице, очевидно, предназначенной когда-то для коротания скучных пар, ручкой были нарисованы морские волны, а в них – дельфины. А в самом низу:
Юная песня кислотных времен разобьется на стразы,
Ведь не напрасно сомненьями mucho мучают.
Зеленоглазые влюбляют в себя кареглазых,
Голубоглазые страдают в любом случае.
Во рту стало сухо, в глазах – мокро. Катя подышала, успокоилась, вбила первую строчку в «гугл» – ничего. Это было ее, Лизино, стихотворение. Катя подышала еще, но больше не помогало: слезы текли по лицу, чистые, словно не зависящие от эмоций, тихий прозрачный поток. Перечитала еще раз – и сразу вспомнилось, как они втроем, и у них действительно полный набор: у Ани карие, у Лизы голубые, у нее самой – зеленые. Им это нравилось, как и то, что у всех были имена русских императриц XVIII века. И снова этот летний день на набережной: там ведь не только водяные пистолеты были, там еще звенел их импровизированный девичий хор – Легко влюбиться, императрица, когда так страстно бирюзовым взглядом СМОТРИТАФИЦЕР! Это было чистое счастье, и сейчас оно впервые вспоминалось без горечи, как будто и не случилось через три месяца ничего плохого. Катя перечитывала скудные строки, плакала, смеялась, и было такое чувство, будто невидимая ладонь гладит ее по голове, заставляя поверить, что ее любят и прощают. И она поверила.
6
– Ай, тут темно, как в печи!
– В какой, на хрен, печи?!
– А ты думаешь, в печи что, светло?!
– Кать, не тупи! Когда огонь горит, конечно, светло!
– Может, тогда фонарик включишь, раз такая умная?!
– Ооо, это идееея! Так, где он тут? Ой, упал!
– Блять, Аня!
– Надо было остановиться после первой бутылки, да? О, вот он!
Щелк – белое лицо Кати среди подъездной тьмы. Диковато блестят зубы, два маленьких фонарика отражаются в пьяных глазах. Аня пошарила световым пятном вокруг, пытаясь выхватить из щекочущей темноты крупицы определенности.
– Смотри, какая тут лестница! Похожа на эту… шведскую стенку, только какую-то опасную.
– Ну да, а за лестницей дверь! Я полезла, а ты свети мне снизу, – Катя взялась за ржавую перекладину.
– Да не надо, Кать, – Аня внезапно испугалась и лестницы, казавшейся скелетом какого-то железного зверя, и пыльной черноты, начавшейся за площадкой последнего этажа: может, просто алкоголь так быстро выветрился? – Дверь это наверняка… – никак не получалось вспомнить слово, – заэтована.
– Сама ты заэтована, – бросила Катя через плечо. Она уже забиралась по лестнице, уверенно, но слегка заторможенно перебирая руками и ногами. – Подними свет, чтоб я видела, да, вот так!
Лестница была небольшой, перекладин двадцать, но Ане показалось, что она несколько часов наблюдала за тем, как Катин силуэт карабкается к металлической дверце. Вокруг было тихо, но не отпускало чувство, что вот-вот – и начнутся чьи-то шаги, или кашель, или возглас: «А вы что здесь делаете?», или, что еще хуже: «Девушки, извините, вам помочь?» Но вот-вот не наступало, а всё равно было страшно. И какого хера Катя туда лезет?! Понятно же, что закрыто, все чердаки всегда закрыты! Видимо, что-то перещелкнуло в ней неделю назад, и теперь она то ли ничего не боялась, то ли просто делала вид, что смелая, пытаясь игнорировать свой тогдашний страх. Замирая от испуга, восторга и предвкушения, Аня прокручивала в голове сегодняшний вечер.
Эта суббота наконец-то наступила, и Аня снова летела к любимому угловому подъезду с бутылкой вина, как Пятачок летел к ослику Иа, держа в лапках зеленый шарик. Сегодня повезло, и шарик не лопнул, бутылка не разбилась, и ценная жидкость осталась в сохранности и поглотилась не горячим асфальтом, а двумя пульсирующими единствами тел и сознаний. После вина Катино единство достало пузатую бутылку Мартини Бьянко – в кафешке выдали в качестве премии, у него то ли срок годности заканчивался, то ли что. Сладкая пряность мартини весело разорвала бордовый бархат, в который затянулся было мир после бутылки красного. Предметы вокруг зазолотились новой красотой, воздух зарябил радугой. Даже бубнящее радио преобразилось и впервые стало петь; Аня сделала погромче: Снова от меня ветер злых перемен тебя уносит… Пугачева, девяностые, детство. Комочки в манной каше, передача «Поле чудес» по пятницам, асфальт вздувается из-за толстых корней деревьев. Смутная история про девушку, которая написала эти стихи, а потом погибла накануне своей свадьбы. Желтой осенней листвой, Птицей за синей мечтой… Стало душно, кухонный уют мешал дышать, захотелось на воздух. Открыли балкон: банки, удочки, велосипеды. Комплект зимней резины. Папины сигареты, жестянка из-под горошка «Бондюэль».
– Нет, здесь плохо, – быстро сказала Катя, – мало места.
– А куда ты предлагаешь, на крышу? – честное слово, Аня пошутила.
– Аня! Это гениально! Нет, это охереть как гениально!! На крыше сейчас точно кайф! Погнали обуваться!
– Да я же пошутила, ты что! Там наверняка закрыто, почти сто процентов! Только время там потеряем и обосремся от страха, – Аня хотела добавить «опять», но не добавила.
– Ну, «почти сто» это не «сто», – не унималась Катя, – значит, есть маленький шанс, что нам повезет. А я знаешь, что думаю? – она уже втискивала ноги в кеды. – Я думаю, что хотя бы разочек нам должно с тобой повезти! Погнали, Анют, не ссы! Так, надо только ключи не забыть…
– Может, хотя бы фонарик возьмем?
– Да! Да! Фонарик! Анют, ты просто моя гениальная подруга!
Два пролета пешком – и началась темнота. Фонарик – бамс, фонарик – щелк, двадцать секунд – и вот уже Катя лезет по ржавой лестнице, и зачем лезет, дурочка, ведь железная дверь, конечно же,
– Открыта!! Ань, ты прикинь?! Она реально открыта! Аааа! Всё, я залезаю, а, нет, я немного спущусь, ты дай мне фонарик, я снова залезу и посвечу тебе сверху!
Аня лезла, перебирая перекладины. Голова кружилась. Над головой ждала Катя. В голове отдавался быстрый пульс. Голову осаждала мысль: неужели может так повезти? Нет, другая: каким садистским образом устроено везение, если твоя подруга может случайно подхватить шальную бактерию и умереть через несколько часов, зато вот, блять, открыт чердак?! Дверь, в самом деле, легко поддалась, впуская в чердачный мрак. Напротив светился лаконичный прямоугольник – выход на крышу. Главное – не смотреть по сторонам. Быстро пробежать, и всё. Веселый страх кусал за пятки, кипятил кровь. Еще два шага – только не смотри по сторонам! – и вылезать. А вот и крыша – и теперь можно смотреть хоть куда.
Крыша подсвечивалась двумя прожекторами, белым и желтым. Здесь было светло и очень просторно, и никаких людей. Аня и Катя взялись за руки и побежали вокруг, восторженным Ааааааа! размечая новое для себя пространство. Город под ними давно уже был съеден ночью, только вдалеке мигали какие-то веселые огоньки. Казалось, что они попали в безмолвный космос, на свою собственную маленькую планету: пусть без роз, зато и без баобабов. Открой всё настежь, слишком много любви – Аня подумала, что ради такой ночи готова была томиться в ожидании хоть две, хоть двести недель. Разве могла она сомневаться в Кате? Она же волшебница, добрая фея, она знает всё про открытые крыши и земляничные поляны, и она прямо сейчас держит ее за руку, и они вместе несутся над уснувшим городом, захлебываясь ночным воздухом, прогретым прожекторным светом. Никакого времени не было, его просто не существовало на этой сказочной плоской планете. Рывок к одному краю – за ним почти нет огней, бархатная чернота, свободная от домов и улиц, только нежно поблескивает спящая «МЕГА». Пару лет назад, когда ее открыли, на соседнем заборе появилась надпись: Главные вещи на свете – это не вещи. Почему-то эта фраза сейчас вспомнилась, захотелось ее прокричать. Прокричали, а потом – еще одну, с другого забора: Заря не зря, и я не зря; они кричали миру, что его послания прочитаны и поняты, и на несколько секунд действительно возникло ощущение благостной ясности, разлитой вокруг.
Другой край крыши, а там – плотные огоньки, стремительно бегут, затем плавно поднимаются – взлетает самолет. Это чудо казалось еще невероятнее, чем то, что у них теперь есть своя планета без времени и глубины. Самолет набирал скорость, он скоро будет где-то – у моря? – конечно, у моря! Нужно было немедленно отблагодарить вселенную за эту красоту, нужно было еще что-то прокричать, что-то важное, может быть, спеть, но что? Вот эту эмоцию, что ты такой маленький и восторженный в огромном непостижимом мире, ее как передать? Катя придумала, она начала петь, но это были глупости, совсем неподходящие слова, просто сопли полузабытой эстрады! Но она не останавливалась, не смеялась, ее слабый голос прорезал ночную тишину, и что-то было в этом, только непонятно, что. Конечно же, Аня подхватила, конечно, она знала слова, забитые в подкорку еще в детстве, а теперь вот разбуженные радиоэфиром:
Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи,
Я отправлюсь за тобой, что бы путь мне ни пророчил,
Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце,
Где разбитые мечты обретают снова силу высоты.
Почему так цепляет, почему наполняет тело живым электричеством? К концу припева Аня уже плакала: чистые слезы, словно не зависящие от эмоций, тихий прозрачный поток. Катя снова оказалась права: эта простенькая песня каким-то необъяснимым образом передавала и счастье, и горе; в ней были запечатаны и блестящий восторг, и матовая жуть. Думала, ты будешь со мной навсегда, но ты уходишь, – далеко в небе, в окружающем космосе, засеребрились молнии. Казалось, будто Лиза, растворившись в атмосфере, отвечала им, посылала электрический привет.
Я ищу среди снов безликих тебя, но в дверь иного дня
Я вновь иду без тебя.
На последний припев Катю уже не хватило: стиснула Ане ребра, горячо задышала в ухо: «Анют я тебе не говорила но я тебя так люблю очень очень люблю если бы не ты я бы с ума сошла прошлой осенью я бы жить не смогла я точно знаю я без тебя не справлюсь загнусь конечно я не могу тебя здесь держать и не надо прости меня но я прошу не уезжай не уезжай не оставляй меня одну давай уже здесь доучимся а потом куда хочешь поедем хоть в этот как его рейкьявик только сейчас оставайся оставайся Анюта».
Любимое янтарное тепло. Бесконечная ночь. Волшебное лето. Ужасный год. Ночная тьма расслабилась, разрядилась желто-розовым. Кажется, всё когда-нибудь заканчивается. Хочется вечно стоять так, слепившись, но вряд ли получится.
Как-то спустились, зашли в квартиру, стянули кеды, по очереди сходили пописать и отрубились, кажется, даже раньше, чем легли. Во сне были разноцветные пятна, серебристые вспышки. Потом что-то толкнуло, и Аня проснулась. Комната уже наполнилась рассветом, через открытую форточку было слышно, как лает собака и звенит велосипед. Рядом посапывала Катя: воскресное солнце в волосах, черные полоски под глазами – она так и не смыла тушь. Двадцать четвертое июля, шесть тридцать утра, улица Ватутина, дом двадцать четыре – Аня поцеловала Катю. Алкогольное дыхание, сухие губы, горячая кожа. Катя проснулась и внимательно посмотрела напротив, в испуганные карие. Аня не представляла, что сейчас будет, она даже не смогла бы себе ответить, чего бы хотела, какой реакции ждала. А вдруг она сейчас что-то сломала, безвозвратно нарушила, уронила крошечную доминошку, которая потянет за собой остальные? Но доминошки стояли на месте. Катя моргнула и широко улыбнулась.
– Анют, тебе что там, Олежка приснился? Я же говорю, он тебе нравится, а ты споришь. Давай спать, еще такая рань! – она зевнула и перевернулась на другой бок.
Нет, какая-то доминошка все-таки выпала. Остальные стояли, как раньше, а вот одной малютки не стало. Малютка, крошка, никчемыш – а без нее теперь совсем не то. Если бы Аня жила в мультике, из ее силуэта непременно бы выпал нарисованный кусочек, и стало бы видно фрагмент полосатой простыни, на которой она лежала вместе с Катей. Вместе с Катей, вместе с Катей, вместескатей, в-мес-те-ска-тей – в голове забубнил тяжелый поезд, он мешал уснуть. Аня походила по комнатам, попила воды, почистила зубы, вернулась назад. Пыльный свет, радуга в разноцветных бусах на зеркале. Кружка с сердечком и надписью Катя. Стул завален шмотками: лифчик в крапинку, носки в полосочку. Обычная жизнь, любимая жизнь. Не для нее, не для Ани. Сердце билось медленно и грустно, она больше не могла здесь находиться. Нашла джинсы и сумку, можно идти. Почему-то в фильмах и в книжках двери у всех сами захлопываются, и герои вечно тихонечко уходят, пока кто-то спит. У Кати, конечно же, была не такая дверь, нужно было закрыться изнутри. Катюш, проснись, закройся за мной, мне надо срочно, прости, мама звонила, они скоро все уходят, а у меня нет ключей, да, сегодня созвонимся, обнимашки, конечно, обнимашки, ну всё, давай, пока.
7
Назад захотелось пешком: перекресток, закрытый парк, троллейбусы выезжают из депо, поворот, улица Перелета, забор, церковь, больницы. На заборе было написано: Ты богиня, но он атеист, – но Аня этого не заметила. Ключи были, а вот из дома все действительно куда-то ушли, даже странно. Аня постояла в душе, смывая с себя звездную пыль; горячая вода приласкала, нашептала, что делать дальше. Включить комп, зайти на почту, найти адрес Инны Петровны из деканата. Написать ей: «Здравствуйте, это Анна Ткаченко из группы ТК-801. Я подумала и решила, что Ваше предложение насчет перевода в СПбГУ мне подходит. Я согласна на переезд и обучение там. Сообщите мне, пожалуйста, какие документы нужно подготовить. С уважением, Ткаченко А.» Про последнюю неделю сентября не писать – насчет моря пока непонятно. Нажать «Отправить». И всё.
Аня так и сделала; неосязаемое письмо улетело в эфемерный простор, чтобы приземлиться в нематериальном ящике и перенаправить Анину жизнь в незнакомое русло. Она тупо смотрела на пеструю страничку; по бокам мелькали новости. «Умерла певица Эми Уайнхаус». Кто-кто? Кликнула: пышная прическа, худые ноги, премия «Грэмми», алкогольное отравление, двадцать семь лет. «На семь лет дольше Лизы», – машинально подумала Аня, вбивая смутно знакомое имя в строку поиска. Секунда – и воздух насытился музыкой: без вступления, пружинящий ритм и голос, голос, голос – I'm gonna, I'm gonna lose my Baby… Конечно, Аня уже слышала эту песню, и вот эту – We only said goodbye with words, I died a hundred times, – вот эту тоже, но не знала, кто поет. А сегодня узнала, когда голос остался просто голосом, навсегда отделился от тела. And now the final frame, Love is a losing game – под этот голос, казавшийся родным, словно услышанным давным-давно, еще до «Рождественских встреч с Аллой Пугачевой», еще до «Пусть бегут неуклюже» – под этот голос Аня провалилась в долгий успокоительный сон. Ей снилось что-то очень понятное, хорошо знакомое, простое и любимое, и когда она, наконец, проснулась, показалось, что стоит только сделать малюсенькое мыслительное усилие – и это ощущение вернется, прибежит назад ласковым пушистым зверьком. Но оно не вспоминалось, не возвращалось, а выскальзывало из рук, как упрямая рыба, оставляя Аню в растерянной пустоте.
Рано утром ее зачем-то разбудила Аня. Что-то про ключи, про родителей – Катя не помнила, она снова уснула. В новом сне, вместо прежних разноцветных пятен и серебристых вспышек, были люди. Сначала маленькие, как будто стоявшие в конце длинного коридора, а потом – всё ближе, всё больше. Скоро стало видно их лица, и это были они, они сами. Катя и Аня. Она, Катя, другая – в очках и с короткой стрижкой, а вот Аня точно такая же, как сейчас – худая, смуглая, задумчивая. У нее на руках ребенок – девочка, Анина дочка. Они, Катя и Аня, о чем-то говорят и смеются, непонятно, о чем – их видно только со стороны. Со стороны, другими глазами. Прозрачная ясность, которая бывает только во сне: это, конечно же, Лизины глаза. В этом странном сне я – это Лиза, смотрю на мир, который уже десять лет существует без меня. Любимые подруги, нескончаемый смех. Восходы, закаты, цветущая сирень. Шампанское, красное, мартини. Слезы, возгласы, смех. Руки, плечи, глаза. Любовь. Море, море, море. Их жизнь – долгая, долгая. Жизнь.


