
Непокой

Микаэль Дессе
Непокой или Кучерявый траур Тикая Агапова
Единственно возможная политика чистоты – фашизм…
Ник ЛандСчастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг – а иной.
Владислав Ходасевич
В коллаже на обложке использована фотография: © Evgenij Yulkin / Stocksy United / Legion-Media.
В оформлении форзаца использована иллюстрация: © Aprily / Shutterstock.com Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Дессе М., 2020
© ООО «Издательство «Эксмо», 2023
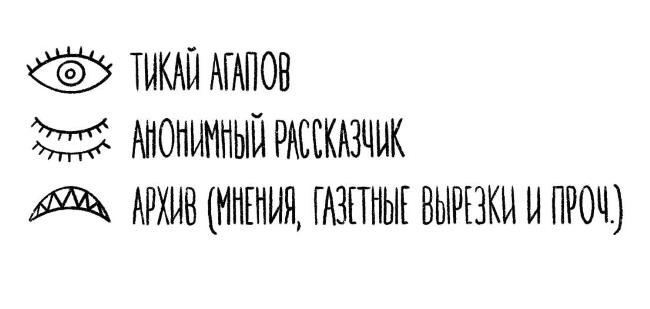
Часть первая
Непокой

Холера, пишу к тебе затем, что ты одна читаешь чем положено. Действительно, в ночь на среду Логики не стало. Поговаривают, скончалась она от энтеровирусной инфекции, поскольку не умела срыгивать, точно мышь какая. Некстати в Ленинградской области занялась полярная ночь – это тоже правда, – потому тьма небесная правит здесь отныне и присно, по неизвестное число, и в том щекотливость нашего положения, что всенощное бдение наказано бдеть до утра, и не формального, что на часах, а всамделишного, что на восходе солнца.
Ты, верно, видела уже конкурентную печать. Если так, роняю профессиональный вопрос: разве можно с такой небрежностью освещать такой грандиозный процесс? Не иначе, погоняют нашего брата. Ну а я подожду, чтобы лишний раз не вымарывать бумагу. Вот в «Артиклях» куда ни шло – из некролога следует, что трагедия приключилась национального масштаба, и оно понятно, ведь девушка была молодая, рыжая, а сверх того – блестящий фармацевт. Людей подобного сочетания в стране совсем немного. Притом ведущими метафизиками мира было установлено, что Логика была законодателем, если не сказать оплотом, целой человечьей бытности. Как это понимать – еще поди разбери. Метафизики такой народ – ничего толком не проясняют, а только и делают, что эффектно наводят шороху. Тем не менее это их сообщение было воспринято мировой общественностью всерьез ввиду многочисленных катаклизмов в ряду смыслов. Не знаю, как у вас, но у нас чуть ни на каждом шагу заслучались конфузы и абсурды. Люди просыпаются без воли к жизни, иногда ушей, а иногда – чувства такта и хорошего вкуса (таких случаев уже зарегистрировано рекордное множество). Слышал, просыпаются даже безо всего сразу или не просыпаются вовсе, лишенные во сне и телес, и самосознания.
Участники панихиды смущены еще тем, что животные, прочая природа и архитектура сходных лишений не претерпели, а вздорный плющ, обвивший настоящее и тянущий стебли в грядущее, имел свинство пустить корни в наше неприкосновенное прошлое и все там исковеркать на свой лад. Бред, одним словом, а виновата, как повелось, женщина.
Верен и слух, что вчерась церемония была едва не сорвана. Гроб, музыка, фуршет – все было изумительно, пока не заявился непрошеный не то знакомец, не то жених покойницы. На той стороне реконструирую.
В сумеречный час шло отпевание, когда распахнулись широко двери в большом зале хорошо, роскошно даже обставленной бывшей церковной консерватории, и на лиловый шелк ковра ввалилась снежная лавина, и в этой лавине исходил из всех щелей паром без пяти минут вдовец (свадьбу так и не сыграли, а тут часы, понимаешь, встали!) Тикай Агапов в шарфах любопытных колоров и текстур. С собою он имел керамическое изделие в форме шаржевого котика, в восточной выделке которого прочие скорбящие усмотрели по меньшей мере кощунство, а по большей – натуральное миссионерство. Я потом его не видел, потому что погас свет и всех спешно вывели через черный ход.
Соображай полосу. И не преминь чиркнуть, что службу вел молодой совсем шаман племени Машона – Чака, сын Йона. Добрый час он танцевал с бубном над усопшей, жег солому, пел по-своему и теперь остался здесь, оттого что вернуться на родину не имеет валюты.
Тут надо бы поддать словца, да покраснее! И хоть это топливо мне ни шиша не стоит, прежде всего горят сроки: погребение уже сегодня, в половину первого, но ни в коем случае не приезжай – иногородних учредители без особых к тому показаний сажают на бамбук.
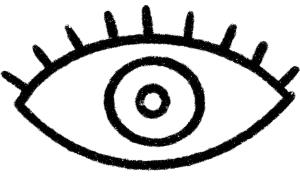
В номерах аскетически закис очаровательно-одурелый (šаl-charm) герой байронического типа-опа! Его обязательно казнят, а пока слышен еще голос, этот дважды сорванный тенор, и бренчанье на воспаленных нервах.
Настроение мычать Пахельбеля и начинять вафельные рожки мокрым порохом, но вместо этого пишу на чем ни попадя. Это дома меня ждет знатный инструмент – точная копия первого «Ремингтона», за вычетом раскладки и бесшумной каретки, – а тут нет лишнего листа, нет даже ластика. Выходит – каждая мысль с наскока, и пока мне точат грифель, утихают сожаления об испорченной бумаге.
Тут – это сразу в двух мирах, на которые сейчас поделен Бамбуковый уезд. Чтобы вы имели представление о предстоящем пути и архитектуре конечного пункта, списываю красноречивый абзац из путеводителя: «На снимке со спутника эта непротяженная дорога на выступающем лобке сосновой чащобы в шестнадцати километрах к востоку от Санкт-Петербурга похожа на бетонный слепок человеческой аорты. Несмотря на многочисленные выбоины, сохранилась она на сегодняшний день настолько хорошо, что вместе с линией электропередачи выглядит посторонней среди земли, травы и неотесанного камня долины, в которой простирается. Самый ее конец лежит в леске, у дверей так называемого Бамбукового дома. Три этажа его четырехкрылого корпуса окружены рвом с мостиком, ведущим к арочному въезду в колодец двора. Над аркой вырублено ромбом единственное непроницаемое окно, а вместо крыши ржавеет бесформенная шапка бамбуковых листьев, отчего здание похоже на сплюснутую гравитацией голову позеленевшего циклопа. Исполинские сосны ревностно берегут его лицо от солнца, но недостаточно густа их хвоя, и поэтому в ясные дни стены дома усеяны блестко-малахитовыми спиломами».
От себя добавлю, что здание отдельными своими очертаниями до смешного напоминает католический монастырь, цвет его к этому времени – лежало-салатовый, а участок обрамлен высоким – выше даже выпавшего снега! – вымершим кустом, что полы внутри дома, как на шахматной доске, в черно-белую клетку, стены сплошь прошиты елочными гирляндами и что все три этажа его снабжены говорящими пространствами за рифленым стеклом. Таков первый мир, с бумагой и карандашом, зато без окон – то ромбовидное в коридоре изнутри замазали смолью, и свет едва просачивается через разводы. Местные, впрочем, в окнах не нуждаются. Им и без них понятно, что кругом руины.
Вообще-то кругом лес, а напротив дома развернут траурно-черный шатер по типу циркового – в нем, собственно, проходят поминки Логики Насущной. Это мир под номером два. При его входе смаргивает слезинку неоновая вывеска формы алой зенки, а внутри под куполом багровеют лучистые черешни китайских бумажных фонариков. В их слабом свете людские бошки кажутся томатами, кипящими в угольной вари. Насколько мне известно, решение вынести поминки за порог было всеобщим. Дом не терпит скорбящих – ему от них солено и натоптано, он их сплевывает, и его нельзя винить. Организовал все это дело альбинос по имени Африкан Ильич, немолодой человек с тонюсеньким комариным соплом и чащей невероятно длинных, словно инеем покрытых ресниц.
Нинисты убеждены, что мир снесло томатное цунами. По поверьям, на вкус оно было – ну точно импортный суп «Кэмпбелл». Поныне, говорят, в кукурузных полях, стреляя попкорном, гуляют огненные смерчи и раз в неделю выпадают смертоносные осадки – силиконовый град размером с грейпфрут. Дескать, только тут крыша цела, а двери все на своих местах. Но уж лучше умереть снаружи, так как здесь работает хорошо вам известный Цветан Метумов. По указу Истины он мне выкорчевал правый yeux[1], а червоточину в центре гнезда из слез, ресниц и кожи зашил шелковыми нитями его коллега – Антон Вакенгут, знаменитый кутюрье, выдающийся брюзга и коллега Африкана Ильича. Такой вот вхожий э-ти-кет у моих пленителей, а я ведь вас не знаю; не знаю даже, как вы отреагируете на неприличное слово «пупок», но жалуюсь. Надеюсь, выйдете на тех, кто примет меры.
Обратный адрес: табурет на поле c2 и столик на d3. Может, и не мои они вовсе. Тут капитализм хромает. Я его запряг в иждивенческие сани. Приятно в них сидится, неторопливо катится. И все бы упоительно, когда б не гадила эта синтетическая сволочь. Истина, как по мне, не женщина, а продукт химической реакции в смеси пафоса, подлости и парфюмерии. Еще кофия, о чем свидетельствует цветущая желтизна ее зубов. Вроде не француженка, но хуже нее нет.
Вы пардоньте, что текстую бессвязно. Отвлекаюсь на память – мой ампутированный глаз смотрит теперь в прошлое, как вчера – в чужое письменное. Далее стенографирую.
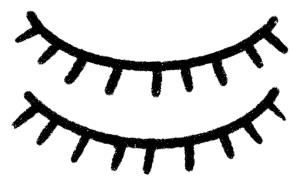
И хотя доктор Леопольд Тамм был молодожен, утром тридцатого марта он чуть-чуть влюбился в бортпроводницу самолета эстонских авиалиний. Предлогом тому послужила легчайшая турбулентность. Любови того же помета случались с ним и раньше – в городских автобусах, в университетах и парках, – но обуять наваждение он, истощенный взнуздыванием трясущихся поджилок, оказался не в силах. Бортпроводница в свою очередь ответила на его чувства стандартным набором блюд из индейки, фритты с грибами, тирамису и колы безо льда, тем не менее преступен был уже порыв.
Через три часа лету, пересадок и липких грез Тамм очутился под Санкт-Петербургом, одновременно в неглубокой российской ночи, аномальной метели и расстроенных чувствах. Укачано спустившись по трапу, он, не дожидаясь багажа, бегом направился в уборную, где в одной из кабинок его вытошнило полупереваренной фриттой и обратило в совершенно другого человека – холостого, что немаловажно, – Тикая Агапова. Этот не засуетился, получил чемодан своего alter ego, распотрошил его в зале ожидания, нашел на свое, Тикая Агапова, имя заказное письмо и из него выяснил, что Логика Насущная завещала ему квартиру, ключ от которой был приложен.

Как сообщается к этому часу, произошла некоторая радикализация общественных институтов. В автобусах, например, установили турникеты. Причем не только нижние, на уровне бедер, но и верхние, для головы, чтобы зайцам при входе сразу сворачивало шеи.
Работает система исправно: в первый же день было поймано с поличным и безотлагательно ликвидировано 106 правонарушителей. Ее лоббистам остается решить проблемы отставания машин от графиков и дорожных заторов, возникающих в связи с извлечением трупов из общественного транспорта и часто затяжной дачей показаний водителем и понятыми.
Кондукторы, соответственно, попали под сокращение, и это страшно логично.
Читайте также: Ученые доказали, что в пожарах с обильным выделением угарного газа чаще выживают курильщики со стажем от 10 лет (стр. 4–5).
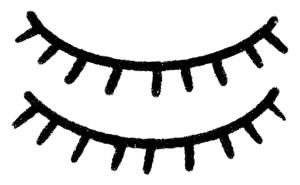
Ранним утром накануне похорон телом Тикай Илларионович Агапов разлегся в горячей ванне, не сняв даже пальто из вполне добротной смесовой шерсти, а душою пребывал в глубочайшем, но безбурном трауре. Только что он унял всякое жгучее чувство тлетворной процедурой, вследствие – стал, как хотел, равнодушен и попросту мок.
Надо сказать об этом человеке, что он был молодой, аккуратный во всех отношениях, но угловатый в лице, плечах, к тому времени хорошенько распаренный, плохонько подстриженный и с бельмом в правом глазу; что на нем, кроме пальто, было все-таки белье и что он не лил слезы тот раз, а пребывал как бы в себе.
Тем днем в шестом часу во всем доме отключили электричество. Света в квартире не было тридцать шесть минут, но все это время и целых одиннадцать минут после Тикай лежал, прижав до пота плотно ладони к лицу, и поэтому, отняв руки, никакой перемены не заметил; только шли из глаз, уцепившись за пальцы, алые веточки нервов. Их он вытянул, сколько вышло, скатал в два клубка и было сунул под воду в худой карман, но одумался и бросил на пол, не придав этому престранному эпизоду особого значения, поскольку уже несколько привык к дурце видимого окружения – она с известных пор случалась, но в рецепции Тикая была отягощена нежданно прозревшем во лбу третьим глазом, который тот по первости принял за прыщ и расчесал. Глаз на это воспалился и обиженно сполз вниз, налив собой правую зеницу, слившись с ней и ее помутив. Нагноенный добела, сулил он жизнь нелегкую – видел собою разное и все клеймил сроком годности. Этой второй его функцией усугублялась непреходящая тоска Тикая. Не врут же, когда говорят, что срок всему на свете отмерен. Если, согласно науке, даже время не вечно, какая может быть речь о ванном реквизите? Взглянувши на тюбик гигиенического средства, Тикай точно узнал, что осталось ему в более-менее целом виде всего-то три года, а дальше – все, волокно и пыль. Видеть же сроки биологического материала, вроде детей и бесхозных животных, было совсем паршиво. Любому сознательному млекопитающему недолговечность сущего горчит по жизни, а неверующему (таков был Агапов) – так вдвойне.
Когда вода вконец остыла, Тикай встал, чуть стек и пошлепал в кухню. Сам он закутался в кусачий плед, а пальто отжал, проутюжив скалкой, и повесил на стул близ дышащей жаром отворенной духовки. Была это квартира-студия в скверном домишке на долготе Лиговского проспекта, вся прилежно выбеленная, но не оклеенная, а только бедновато украшенная меблировкой. Кухней считалась та треть комнаты, в которой располагались плита и умывальник. Ее границы были обозначены геометрически неопределенным столиком – квадратным по замыслу плотника, но округлившимся по ходу службы: все углы его сбились, стерлись и так канули в Лету. Кроме него, человек прихожий выцепил бы взглядом рисунок ротастого полумесяца, пригвожденный магнитиками к дверце необъятного двухметрового холодильника, и библиотеку на трех косых полках, уставленных выкрашенными льняным маслом книгами. Целью художеств, подумал Тикай, было скрасить бесвкусицу иных обложек. Сам дом оказался запущен и, судя по симптомам – настенному грибку типа Rhizopus, шаровидно вздутому санузлу, сколиозу перил и мокроте в лестничном пролете, – был уже при смерти.
– [Квартира светом не богата. Ей мало одного окна. Припухшая в нем розовеет ряха заднего двора,] – запищала, показалось Тикаю, оконная рама.
Чтобы ее по-своему утешить, он снял с подоконника пустую вазу и уселся узеньким задом вместо нее, составив компанию подсвечнику и знакомой копилке, так называемой манэки-нэко – киске-зазывалочке. Подарком была эта черноухая, а впрочем – белая, раскосая, расписная, подающая лапку игрушка. Когда-то он и стащил эту утварь с блошиного рынка, чтобы вручить Логике на ее – надцатый день рождения. В свете последних событий копилка, ясное дело, ожила, но Тикай об этом пока не знал и завороженно смотрел, как под окном у тротуара голуби – недобрая дюжина птиц – победно водили хоровод вокруг мертвого кота.
– [Грустно тебе?] – спросила копилка в тоне шкодливого ребенка.
Тикай качнул мокрой головой.
– [Когда теперь нашу девочку зароют?]
– Завтра.
– [Ведь не прямо же туточки в квартире?]
– Не туточки.
– [Ясен пень, не туточки, а на кладбище в Бамбуковом уезде!]
На эти копилкины слова Тикай сник, с подоконника брык и принялся сутуло прохаживаться по квартире, рассуждая про себя: «Да разве там уезд? Скажи она “семитский поселок городского типа” – и возражать нечего, а так – заговаривается стеклянная».
– [Я к тому веду, что непонятно, какого ты расселся!]
Ударил ветер, икнула и захлопнулась форточка.
– Не поеду, – отрезал Тикай.
– [Вот так новость! Слабый ты, оказывается, паренек, изнеженный.]
– Не в этом дело. Ни черного костюма нет у меня, ни знакомого, у которого можно было бы взять такой напрокат, а бежевая тройка Тамма годится только на танцы.
– [Как можно?! У них там стол, а проведи ты ревизию холодильника, знал бы, что на завтрак у тебя всего только огрызок спаржи. Да и что такое костюм, когда мы говорим о закопках человека! Родного человека!]
Тикай уставился на блестевшую в раковине под грудой грязной посуды чайную ложечку и как будто не услышал, что кричала копилка. Голос у нее был как у шестилетней, охочей до визга безобразницы, да еще и с японским выговором, в тянучке которого было что-то по-настоящему кошачье.
– Меня, знаешь, не приглашали.
– [Ой, все! Тем паче ты должен там показаться. Не из сочувствия, так хотя бы из наглости.]
Тикай и до уговоров хотел поехать, но смущался всяких возможных эксцессов, а тут уже окончательно решился. Голод взял свое. Кошка, кажется, это поняла, потому что перестала его упрашивать и наконец представилась: «[Дама по имени Драма]». Тикай в свой черед назвался и пожаловался на несносную бессонницу.
– [Хочешь, я тебе помурлычу?]
– А давай.
Он откинулся в кресле, заложил руки за голову и, частью задремав, внял фонеме, когда послышались ему в стуке сердца тишайшие отзвуки опия. Он вздрогнул тогда, очнулся всеми членами и больше не смыкал глаз.

Уложусь в три слова. Раньше ведь получалось.
Инцидент был на практическом занятии в морге. Пришла почти вся группа, лбов двенадцать сгрудились у стола, сами желторотые, пытливые, обморочные в намордниках, фартуках, чепчиках. Я не такой, нет. Займемся, говорят, сегодня вскрытием с установлением причины смерти, и выдана нам для этих целей моя холодная ровесница. Уложили. Лицо, как положено, прикрыто полотняной салфеткой, а волосы рыжие, стрижена коротко. В левой подреберной части колотые раны, но умерла она, предположительно, из-за отказавшей печени. Режет Симонов и ассистент – имени не вспомню, хотя его нам вроде бы представили.
Первым делом вспорол от подбородка до паха, развел живот и груди, поддел зажимами со всех сторон. Пошел запах. Выемку грудной клетки я проглядел – отвлекся на новоприбывшего – и обернулся, когда уже Аристарх Андреевич, будто нащупав в горле все связующую ниточку, вытащил одной рукой девичье нутро от печени до аппендикса. Подержал его на весу, как запутанную висцеральную гирлянду, пока мы описывали, а как закончили – бросил небрежно на столешницу у самой раковины и возился там долго со скальпелем.
– Пиши, – говорит ассистенту, – кишечная палочка. – И в раковину летит и клацает о металл небольшая серебристая полоска.
И потом все вместе рассматривали внутренний мир молодой женщины, копались в нем коррозионно-стойкой сталью. Я понял, она безумна, и похоронят ее санитары. Так донесли остуженные органы. Через пепел в желудке. Она ела пепел. Боже. Интересно какой. Сигаретный, наверное. А марка? Пока я умствовал, вся ее извлеченная часть – мясное ассорти из усохшего сердца, исполосованного кишечника, раздутой печени и остального – отправилась в корзину, а ассистент за нашими спинами набил ее пустоты тампонами и пожелтевшими бинтами. И когда он штопал, тогда с ее лица упала грубая вуаль, и она оказалась прелестной, курносой, губастой, хотя рот был настежь и глаза по-покойничьи разъехались, а это, конечно, фу, и тогда все поменялись в лице, когда у Арсения случился припадок и он дал нам понять, что в эту самую секунду непроизвольно писается в брюки, и вообще по натуре он любвеобильный, а хочет в патологоанатомы.
Я вот не описался, и припадок меня миновал, но чувствую, да – сердце мое тоже пылкое. Может, буду прозектором, а может, не буду, и она одна была такая – сумасшедшая, красивая, мертвая.
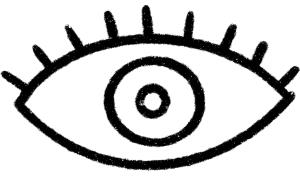
У матери, лингвистки по образованию, я еще из-под стола частенько спрашивал: «А какое слово, если подумать, самое главное?»
Если подумать.
Догадываясь, что в Бамбуковом доме беглецу уготованы в лучшем случае кандалы, перво-наперво я съездил навестить ее участок на Смоленском кладбище. Опекуны мои его недоглядели – могилка провалилась, с оградки хлопьями ссыпалась краска, под тающим льдом взбухла бездна пожухлой травы, а имени и дат на табличке не разглядишь и с лупой.
В Израиле у нас был огород, мы выращивали картошку. Годами цветки ее порывались сожрать колорадские жуки. В детстве я собирал их в большую банку, а потом всячески над ними измывался – сжигал, свежевал, насаживал на зубочистки, замораживал с водой в формочках для льда. Когда мне было восемь, у моей матери нашли рак. Через три года его бляшки так плотно усеяли ее внутренности, что, сумей я их достать, для них, наверное, не нашлось бы банки по размеру. Они влезли в коронарные сосуды, и тогда моя мать умерла. К тому времени она весила сорок килограммов или чуть больше, а может и чуть меньше. Рак ее съел. Объедки положили в гроб и зарыли в землю.
Она считала меня бессердечным ребенком, и небезосновательно. Было время, я подумывал убить нашего кота – Кира. Приноровился он ссать мимо лотка – чертил мочою желтые пентаграммы на ковролине. Яйцы – и те ему оттяпали, а он, демон, все метил и метил. Хотя, может, не в нем было дело, и просто мне хотелось кого-нибудь поистязать. Со злым пристрастием втирал я кота мордой в его собственные лужи, а когда и этого мне стало мало, принялся пинать его что было мочи. Всяко хотелось пнуть, что ни попадя под ногу. Кобелька соседского хотелось пнуть, жучка, да хоть камень. А подвернись мне под ногу младенец – я и его с дуру, но и с удовольствием бы пнул. Или не пнул, но и не приголубил – это точно. Помню, попался мне тогда жирный слизняк в теплице – так я принес его домой и засолил. Как он мучился! Как извивался! Пока соль не вышла, солил его. Под конец он уже стал похож на высушенный воробьиный помет. За это-то меня и сошлют в ад, на корм Киру.
Каждому из нас поставят памятник. Кому на площади, а кому на кладбище. И матери моей не пристало лежать под ржавым прутом с именной табличкой. На все рубли, что наменял с крон, я заказал ей в местной конторе приличный камень с гравировкой. Не далече как в августе могилу моей матушки вы сможете найти по памятнику с такой эпитафией: «Самое главное слово – это “слово”. Самая главная книга – это Букварь». Так она мне отвечала.
Новорожденная мысль эфемерна, почти что бесплотна, но сгущается с опытом. Парообразная мысль душна. Жидкой захлебнешься. Во льду ее будешь замурован. Всякое знание подвластно законам aggrego[2]. Всякое знание мне неудобно. Вот не знаю самого главного слова – и пусть. Отсель мне, безбожнику, поминая усопших – да и на смертном одре, – нелишним будет замест молитвы декламировать русский алфавит.
В воротах Смоленского я определился с миссией визита: разворошить осиное гнездо Насущных и наесться вдоволь, чего бы мне это ни стоило. Знать бы еще, с какого перепугу вздумал лезть на рожон мой эстонский попечитель Леопольд Тамм.

Ничто не предвещало криминала. Тикай тогда прикорнул, а Леопольд Тамм к приходу жены разделывал курицу в кухне их таллинской квартиры, и как раз по эстонскому радио по-эстонски сказали, что никто никому ничем не обязан, как раздался дверной звонок. Тамм от удивления чуть не отрезал себе палец и поэтому шел открывать незваному гостю вгорячах. На пороге его ожидал щуплый юноша в курьерской униформе с пузатым рюкзаком наперевес.
– Вы Леопольд Тамм? – по-эстонски спросил курьер.
– Может, и я, – по-эстонски ответил Тамм. – Чего вам?
Курьер извлек из рюкзака полиэтиленовый кулек подарочной раскраски и открытку. Тамм за них расписался, у курьера из рук выхватил, дверь запер и давай изучать.
«Ты, зятек, на щедрые вливания особо не рассчитывай. Бери пример с растения», – по-эстонски сообщала подписанная тестем открытка. В кулек был завернут глиняный горшок с торчащим из него конусовидным малюткой кактусом – эти, как известно, и вовсе без воды не сразу чахнут. Тут надо прояснить одну вещь. Неделей ранее Тамм женился на дочери владельца кирпичного завода. Женился не по любви, а из корысти, рассчитывая бросить медицинскую практику, которая у него включала всовывание пальцев в незастекленные бздимонокли малознакомых людей, и зажить на дотации со стороны тестя, который, как теперь выяснилось, мужик был ехидный, а что страшнее – жадный.
Тамм, гневно пыхтя, понес символический подарок в кухню, отворил окно и как бы обронил горшок с двух вытянутых рук во внутренний двор. Разделавшись, он даже не взглянул, что сталось с кактусом после падения с пятого этажа, а уже упоенно размышлял, что почтальон ему милее тем, что воспитан не как курьер – дверной звонок не терзает, подписать ничего не сует и вообще душка, хоть и приходится иной раз проверять почтовый ящик из-за его кротости, а Тамм и правда давно в него не заглядывал. Вспомнить бы еще, куда подевался ключик, что его отворяет. На магните в коридоре все ключи были слишком длинные, стертые, латунного цвета, а тот был вот такусенький, гладкий, серебристый. Тамм пошарил в карманах куртки, шорт, шубы – одни фантики от жвачки да крошка непонятно от чего. У консьержа есть запасной, вспомнил Тамм, влез в портки, доехал на лифте до первого этажа, чтобы там грязно выругаться по-эстонски: консьерж куда-то умотал и даже табличку не выставил, что так и так, palun oodake[3].




