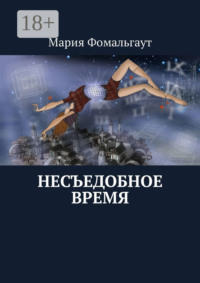Полная версия
Закниженная пустошь
Закниженная равнина
…книга растет медленно. Кто вам скажет, что книга будет готова за неделю или за месяц, – гоните того в шею, так не бывает. Кто вам скажет, что есть какое-то книжечное дерево – тому тоже не верьте. Книга может вырасти и на сосне, и на тополе, и на ёлке, и на астероксилоне, даром, что они вымерли давным-давно, для книги это не помеха.
Сначала на ветках появляются знаки – самые разные, причудливые, многие из них совершенно непонятные. Бессмысленные, мертвые знаки опадают, уносимые ветром, – они не держатся на ветках слишком долго. Ближе к июлю на ветке дерева можно увидеть только осмысленные буквы, где-то в развилке притаилась буква А, на верхушке ёлки – горделивая Ф, на тоненькой ветке – аккуратная У. В это время года еще можно заметить на деревьях буквы других народов, – латинскую F, китайский знак огня, арабскую вязь.
Когда наступает август, буквы уже слабее держатся на дереве, их связь ослабевает, им приходится складываться вместе, чтобы удержаться на ветках. Но не всякой группке букв удается укрепиться на ветвях – большинство из них разметает и унесет ветер. В первую очередь улетят те, у кого получилось сложиться в какую-то бессмыслицу, не более того – ыванео, смрае, лгктрпв, фкоалшгн, – такая белиберда, как правило, бывает очень длинная, буквы как будто чувствуют, что делают что-то не то, вот и стараются выстроиться подлиннее. Но, разумеется, их это не спасет.
Еще меньше повезет буквам чужого алфавита, – им просто не с кем сложиться в слово. Иногда можно заметить, как какая-нибудь латинская W пытается составить слово с японским иероглифом, обозначающим женщину, или египетский знак сокола прикрепляется к шумерской клинописи – выглядит причудливо, но это их не спасет. Я лично знаю нескольких отчаянных мечтателей, которые в июле лазают по деревьям, собирают немыслимые сочетания букв, рассаживают по клеткам, по аквариумам, по банкам, пытаются вырастить из них что-то, придать словам какой-то смысл – но слова, изначально не имеющие смысла, долго не живут.
К началу августа на деревьях остаются только осмысленные слова – солнце, дорога, эврика, заснеженный, говорящий. Но слова еще гибкие, еще податливые, они еще ползают по дереву причудливыми черными гусеницами, соединяются – дом-ой, дом-а, небо-свод, или ДОМА подбирают какую-нибудь потерянную Ш, а уж потом как повезет кого встретить, или – ний, или —ка, и получится слово. Окончания вообще любят собираться кучками, выжидать, чтобы какое-то слово обратило на них внимание.
Когда начинается сенокос, слова уже ищут друг друга, чтобы сложиться в целые фразы – к этому времени у них отрастают крылья, и слова-одиночки вспархивают над деревом, чтобы найти себе подобных в других местах. В знойные августовские дни можно вволю полюбоваться перелетами слов с дерева на дерево, иногда даже до соседней рощи. Очевидцы рассказывают, что как-то целая стая слов летела к соседнему лесу через бескрайний луг.
К тому времени уже можно снимать с деревьев целые предложения, – однажды мне попалась на дереве фраза «Когда она поднялась на дорожку, ведущую к полной луне, луна как раз коснулась земли, и страннице пришлось поторопиться, чтобы успеть к луне, пока она не поднялась слишком высоко.» Я хотел читать дальше, но дальше не было, – предложение вырвалось из моих рук, вспорхнуло вверх по дереву. Позже, ближе к осени, я попытался найти книгу с этим предложением – но у меня ничего не получилось, я так и не смог разыскать книгу, в том году их было слишком много.
А чуть позже начинается фразопад – так мы называем дни, когда отмирают ничего не значащие предложения, например —
С семи до восьми мы обустроим мёртвую реальность, где можно поднять следующих людей, а с восьми до девяти расположится демоническая голова с картин, или —
великий хлеб ясен сыграл меня молчанием и темнотой – только несколько порядков велики оставались больше, два места велики тонут с литератур, со мной тоже такое трясся, я чуть не гостин разлетелся от страха…
или —
думайте, спутник мой, вы же там, а не тут, не вас же молоды скажут пожелтевшие карены в дело корабля, не вашу кровь напишут вежливо на городской местной ночи…
Вот такие предложения отпадают, отмирают. И если кто-то скажет вам, что слова сами знают, как им расположиться в предложение – не верьте таким людям, ни единому слову их не верьте. А лучше покажите им августовскую землю, усеянную мертвыми фразами, которые ничего не значат. Впрочем, сторонники разумности слов предпочитают не замечать очевидные вещи. А мы с вами лучше пройдем по позднему августовскому лесу, соберем мертвые фразы, сделаем букет, который будет стоять до следующего фразопада. Кто-то даже выставки этих букетов устраивает, конкурсы какие-то, не знаю, никогда не пробовал. А когда осень позолотит верхушки лип, останутся только живые предложения, несущие смысл. Правда, будут попадаться и такие, про которые вам ничего не понятно – но почему-то они живут и не опадают.
Как предложения находят друг друга – до сих пор для многих остается загадкой. Хотя правильный ответ удивительно простой – никак. Предложения сталкиваются в полете, и если подходят друг другу по смыслу – то сплетаются прочно-прочно, а если фразы не состыкуются – они разлетаются в стороны. И только теперь становится понятно, что абсурдные предложения, которые каким-то чудом выжили – вовсе не абсурдные, у каждого из них есть значение. Не вашу кровь напишут вежливо на городской местной ночи – цепляется к фразам, которые составляют целую историю про города, в каждом из которых есть своя, местная ночь, и там живут люди, кровь которых – что-то вроде стихотворения, и выражение «напишут кровь» вовсе не является безумием.
Откуда они знают заранее, кому жить, кому умирать? Почему слово елокда умирает, а слово фоашш остается жить, чтобы стать криком дракона в какой-то сказке? Почему слово арпоне – лежит мертвое на траве, а слово снеждь живет, становится названием чего-то среднего между дождем и снегом? Кто-то опять начнет с пеной у рта доказывать, что кто-то заранее знает, о чем будет книга, кто-то невидимый и неведомый пишет её – нет, ничего подобного. Ответ опять же до смешного прост – каждое слово старается притянуть к себе какие-то слова, чтобы выжить, – точно так же, как каждая фраза стремится выжить, притягивая к себе другие фразы. И несуществующая снеждь тянет к себе слова снег и дождь, чтобы нанизать слова – у нас снег и дождь называют красивым словом «снеждь». А потом уже прицепит фразу, где написано – где это «у нас», фразу про какой-нибудь удивительный город. Более того, такие-то неправильные слова и фразы ищут друг на друга, жмутся друг к другу, и вот уже в городе, где моросит снеждь, появляются местные ночи, и творцы пишут карены – что-то среднее между катренами и картинами. Нет, не картину, а под ней катрен, а именно что-то среднее: пока сами не увидите, не поймете. Фоашш, фоашш…
Чем больше осень вступает в свои права, тем меньше летают фразы – они жмутся к облетающим деревьям, оплетают их длинными нитями, свисают до самой земли. Иногда бывает интересно ухватиться за кончик предложения и распутывать историю, у которой частенько еще нет начала и конца. Правда, так недолго и повредить тончайшие фразы, и книга рассыплется, так и не сложившись. Когда мы были детьми, нередко тайком распутывали на деревьях истории, пока нас кто-нибудь не ловил за этим занятием и не надирал нам уши. Стыдно признаться, пару книг я погубил-таки, дернул нечаянно. Зато еще одну книгу я спас, – прочитал кусочек без начала и конца, а потом книга не прижилась, рассыпалась, не пережила зиму. Я могу даже пересказать вам, о чем она…
…но не о том речь, не о том. А о том, как с последними облетевшими листьями на мертвую листву ложатся буквы, слова, предложения, – страница за страницей, – листья-буквы-листья-буквы-листья-буквы. Старый садовник сурово отгоняет тех, кому не терпится полистать свежие страницы, ну еще бы – так и повредить недолго.
А потом страницы заметает первым снегом – все гуще и гуще, и книги дремлют до самой весны. Тут, главное, не торопиться, но и не замешкаться, а ближе к Сочельнику отправиться в лес, раскапывать снег – бережно-бережно, и рукавицы промокнут, и руки озябнут, и… и здесь надо с пафосом сказать, что все трудности тут же забудутся, как только откопаешь из-под снега настоящую книгу, – да нет, ничего подобного, уже миллион раз проклянешь эту книгу, пока вытащишь, и себя проклянешь, и заснеженный лес. А потом тащишь все это через сугробы, и сколько раз хочется все это бросить, пропади оно, пропади все, пропади… А не бросаешь, а везешь, к дому, к дому, на заснеженное крыльцо, вроде бы только чистили, опять замело к чертям, и долго отряхиваешь снег, и усаживаешь книги у камина, чтобы согрелись, оттаяли, ожили, раскрыли свои тайны…
…так что если кто-то будет вам говорить, что книги кто-то нарочно пишет – вы такого гоните сразу в три шеи. Может даже не показывать разрозненные буквы, ничего не значащие слова, бессмысленные предложения, оборванные сюжеты…
Нет, есть, конечно, шарлатаны, которые сами делают книги, куда же без них. Только это сразу можно отличить, или шарлатан какой книгу написал, или настоящая книга, на дереве выросшая. Вы сами-то по книжным базарам походите, почитайте, полистайте, спервоначалу непонятно будет, а там и поймете, какая книга настоящая, а какая поддельная.
А у нас сегодня закнижило все, такой книгопад за окнами, смотрю на закниженную равнину, в самую пору идти, лепить книговика. Прилетят книгири, рассядутся по веткам, скоро пойдем искать в лесу подкнижники…
Фрагменты фильма
…в фильме обязательно должен быть момент, когда Юн в отчаянии бежит через листопад аллеи прочь от дома, куда-то на пустошь, и дальше, дальше, на берег моря, где дальше некуда бежать, только ринуться с обрыва в волны. У зрителей должно сложиться впечатление – на какие-то доли секунды – что герой и правда бросится в море – но тут же он остановится, упасдет на колени, весь его вид будет выражать глубочайшее отчаяние. Лицо героя в этот момент показывать не надо – потому что никакое выражение лица не может передать то глубочайшее потрясение, которое испытал Юн.
Напоминаем: зрители еще не знают, что он прочитал там, в библиотеке хозяина.
Важно: это не то отчаяние, которое переживал персонаж, когда у него что-то не получалось, когда он в бешенстве хотел грохнуть скрипку о стену, неимоверным усилием воли клал её на стол, выбегал из комнаты – прочь, прочь, в темноту ночи, пропади оно все пропадом, пропади, пропади, пропади. Это было другое – минутная слабость, после которой можно вернуться на круги своя, стиснуть зубы, работать, работать, работать. Но тут совсем иное – настоящее отчаяние, после которого человек не знает, как жить дальше.
Имейте в виду – замешательство героя должно расти постепенно, с того самого момента, как на улице к нему подсядет человек, хозяин загадочного дома, и заведет неспешный разговор ни о чем, и в то же время обо всем на свете. А вы чем увлекаетесь, да как ничем, ну что значит, мечтали, мечты сбываться должны, как скрипки нет, будет скрипка, все будет… Уже тогда герою должно быть страшно, уже тогда он начнет понимать, что так не бывает, чтобы незнакомые люди подходили и приглашали в гости в их дом за городом, где можно поупражняться на скрипке, и поужинать, и куда вы в такой поздний час пойдете, слуги вам наверху постелют…
Тревога должна усиливаться – например, вечерами, когда юные таланты будут рассказывать друг другу жуткие истории про хозяина дома, который заманивает сюда неординарных людей, чтобы потом вытянуть из них души. Пусть зрителям покажется, что это не просто страшилки, что на самом деле существует такая опасность – стать жертвой странного хозяина.
Не забудьте передать замешательство Юна, когда он заблудится в незнакомом городе, и не сразу спохватится, что потратил все деньги, выданные хозяином. Помните, тут должно быть два вида замешательства, совершенно разных – страх остаться в незнакомом городе и тот момент, когда рядом с Юном паркуется машина, из которой выходит старый Франсуа и спрашивает, желает ли молодой скрипач ехать домой или хочет остаться на ночь в городе. Здесь Юн должен по-настоящему испугаться – он не понимает, каким образом Франсуа узнал, что Юн здесь, если сам Юн не знает, где он. До этого не забудьте показать, что Юн забыл свой телефон, и его местоположение невозможно выяснить.
В следующих случаях, когда хозяин будет предвидеть события, которые предвидеть, казалось, невозможно, Юн уже не будет так изумляться – нужно показать какую-то отрешенность на его лице, он принял правила игры, хотя совершенно их не понимает.
Совсем другим должен быть страх Юна, когда он просыпается после ночных кошмаров, долго лежит, уставившись в потолок, пытается понять, что он видел, что с ним было, почему он был то в тронных залах, то в каких-то потайных убежищах, а снаружи ждет смерть, неминуемая смерть, и самое страшное, что это он сам все устроил. Здесь должен быть даже не страх – неянсая тревога, непонятное чувство, что он должен что-то сделать, и не делает, что он не на своем месте, что нужно куда-то бежать прочь из этого дома, в какую-то сторону, причем, Юн определенно знает, в какую. В те ночи, когда Юн не может противостоять неясной тревоге и правда выбегает из спальни на улицу, и дальше, по шоссе, по бездорожью, в никуда – нужно показать, как неумолимое намерение бежать на свое место постепенно уступает растерянности, – сонное наваждение уходит, Юн снова становится Юном, таким, как обычно, прихрамывая, плетется к дому, иногда даже не может вспомнить, откуда он бежал, ищет какие-то ориентиры, шоссе, ловит попутки.
А вот когда Юн увидит Эльгу, которая бежит ночью через поле, он даже не удивится – бросится за ней, не раздумывая, терпеливо дождется, пока наваждение Эльги спадет, осторожно окликнет девушку, поведет к дому. Здесь по выражению лиц героев нужно показать, что они хотят спросить друг друга, – а вы тоже? – а вы? – и не спрашивают, и так все понятно.
Когда все тайно от хозяина соберутся в нижнем зале, встреча должна проходить в полном молчании, – зритель должен только увидеть, как музыканты, художники, режиссеры, писатели, ученые рисуют на полу направления, куда гонят их сны, прикладывают карту мира, начинают понимать, что какая-то неведомая сила манит их в мировые столицы, но зачем и почему, они не знают.
Зрители так и не должны увидеть, что герой прочитал в закрытой библиотеке хозяина – покажут только первые страницы учебника истории, сведения в котором совсем не соответствуют настоящему течению истории. Фотография Юна должна мелькнуть мимолетно, едва заметно. Зритель должен сам догадаться, что там прочитал Юн, почему странные сны вели обитателей дома в столицы, и что так разочаровало Юна, который до этого момента искренне считал себя одаренным, а теперь понимает, что хозяин странного дома собирал их у себя не для того, чтобы раскрыть их таланты, а совсем с другой целью…
Дворец Полносолнция
– Где замок? – он смотрит на меня, как мне кажется, с ненавистью – замок-то где?
Откашливаюсь, готовлюсь объяснять, долго и муторно.
– Вы мне замок обещали, – не унимается он, – замок Луны.
Говорит таким тоном, как будто я ему обещал, что он будет жить в этом замке, не меньше, а тут нате вам, замка-то и нет.
– Понимаете… этот замок был построен семь тысяч лет назад…
– …вы уже говорили, – нетерпеливо обрывает он.
– …ну вы же понимаете, что осталось от замка через семь тысяч лет?
Он бледнеет.
– Хотите сказать…
– …ничего.
– Слушайте, я вам за что плачу, спрашивается? – он снова смотрит на меня с ненавистью, – уже даже не за руины, а за голую пустыню, так, да?
Пожимаю плечами, ну что поделать, получается, что так.
– Ну ладно, давайте дальше… что у вас там заявлено… дворец… дворец Полносолнция…
– Полно… чего?
– Ну, то полнолуние есть, а то полносолнцие…
Он недоверчиво смотрит на меня:
– А что, у солнца есть фазы… как у луны?
– Ну, нет, но…
– …а если нет, то какого черта полносолнцие?
Хочу ответить, что если что не нравится, так и вали отсюда, никто силой смотреть ничего не заставляет. Не огрызаюсь, покорно веду туриста куда-то в никуда, вот так, ну а что поделать, дорога тяжелая, извините, никто шоссе не проложил, да вам его в программе и не обещали никакое шоссе…
– Вот… полюбуйтесь… дворец Полно…
– …какого черта?
– А… ч-что такое?
– Нет, вы посмотрите, вы посмотрите на него, он еще спрашивает! Что такое… Я вам за что платил-то вообще?
– За дворец… Полносолнция.
– И где он, этот ваш дворец?
– Ну, он был построен три миллиона лет назад династией…
– …так где он, я вас спрашиваю?
Выдыхаю:
– Разрушен.
Турист хлопает себя по коленке, бормочет что-то, да пропадите вы все пропадом…
Не понимаю я его. Не понимаю. Люди сюда рвутся, приезжают за тридевять земель, фотографируют пустоту – чтобы хоть пустота осталась на память о том, что было когда-то, бесконечно давно. А этот нате вам, сам не знает, чего хочет, то ему не так, это не эдак…
– Что у вас еще?
Он уже не спрашивает. Он уже требует. Тоном, не терпящим возражений. Вынь да положь ему все, что у меня еще есть в каталоге…
– Ну, вот… Звездный Город…
– Я надеюсь, его не сто миллионов лет назад построили?
– Нет, что вы.
– И не тысячу лет назад?
– Нет-нет, позже, много позже…
– …столетние руины какие-нибудь…
– Еще позже…
– Это уже радует.
– Только чтобы туда попасть, надо на высокую гору подниматься, вы как, ничего?
Он ничего, он согласен хоть на край света, лишь бы увидеть хоть что-то в этой бескрайней пустыне. Поднимаемся – в головокружительное никуда, спотыкаемся о пустоту, хватаемся за воздух. Мне кажется, что каждый раз, когда я на неё поднимаюсь, эта гора становится все выше и выше, когда-нибудь она станет бесконечной.
Останавливаюсь, чтобы отдышаться, показываю пустошь:
– Вот…
– Что вот?
– Город…
– Какой, к хренам собачьим, город? Вы меня разыгрываете или что?
– Звездный город.
– Вы из…
– …только его еще не построили.
– И когда же…
– …это будет только в пятитысячном веке.
– Году?
– Веке.
Жду от него новой вспышки гнева. Не дожидаюсь. Он смотрит на пустоту, где когда-то появится город, он как будто пытается увидеть то, чего здесь еще нет. Нехотя-нехотя достает телефон, делает снимок пустоты.
Поворачивается ко мне.
– А еще у вас есть что-нибудь… такое?
– Есть, конечно… Крепкая Крепость…
– И когда её построят?
Еле сдерживаю улыбку, ага, принял правила игры…
– Через тысячу лет.
У него загораются глаза:
– Пойдемте… посмотрим…
Мысленно киваю сам себе, ага, клюнул…
– …и что, все у вас такое… вот такое вот, да?
Не понимаю:
– Какое – такое?
– Ну… то, чего еще нет… или уже нет?
Пожимаю плечами:
– Ну а как вы хотели, вы хоть понимаете, какая это ничтожная вероятность, что на какой-то планете в одно с нами время появится разумная жизнь, которая будет строить замки, крепости, города?
– Понимаю… – кивает он, идет к терминалам, где стоит полиция, пропускает в портал, – понимаю… спасибо вам огромное…
– Да не за что… работа наша…
Его пальцы клешнями сжимаются на моей руке, даже вскрикиваю от боли.
– Арестуйте этого человека.
Люди в форме недоуменно смотрят на туриста:
– Простите?
– Арестуйте его.
– Но…
– …он мошенник.
– А что он делает?
– Туристов обманывает, что… наобещает в своей рекламе, что кучу всяких храмов увидим и городов, а на самом деле одна мертвая пустыня… да еще и наглости хватает заявлять, видите ли, это уже рассыпалось в прах, а это еще не построили… Нет, вы представляете, каков фрукт, а?
Люди в форме кивают:
– Ну, хорошо… пройдемте.
Проходим. Захлопывается массивная дверь, я уже знаю, что будет дальше.
– Хорошо знаю.
– Так вы… – полицейский сочувственно смотрит на туриста, – вы… действительно их не видели?
– Ну, вы мне не верите, вы сами-то в пустыне посмотрите, что делается, ничего нет!
– Ничего нет, говорите… не видите, говорите… Так откуда вы взялись-то такой, что во времени ничего не видите?
– Т-то есть откуда?
– Давайте-ка по базе пробьем… А ведь вас не существует.
– В смысле?
– Вы не родились.
– То есть?
– Ну, чтобы человек родился, надо, чтобы его родители встретились, верно я говорю?
– Верно.
– Ну вот, а ваши родители и не встречались никогда…
– П-почему?
– Потому что их самих не существовало, вот, посмотрите…
– А их-то почему не…
– …потому что их родители не встретились, что ж тут непонятного?
– А им что помешало встретиться?
– Так все то же самое…
– И до какого колена, хотел бы я знать? – он все ещё усмехается, он все ещё не понимает, чем для него это всё кончится…
– Так ни до какого… вашей истории не было, понимаете? Ваши предки никогда не вышли на сушу, ваша планета не появилась, ваша звезда не вспыхнула…
Человек в форме поворачивается ко мне. Торжествующе:
– Вот мы его и накрыли… спасибо вам огромное…
Бормочу что-то вроде рад стараться, чувствую, что краснею.
– Ну… как договаривались, расплатимся с вами с лихвой…
Спохватываюсь:
– А… а можно попросить?
– Что такое?
– А… а можно мне этого?
– Какого этого?
– Ну… этого этого… у вас же вроде такие вот ошибки реальности…
– …стирают.
– Ну, или в рабство отдают… – говорю торжествующе, уж что-что, а законы я знаю.
– Верно говорите.
– Ну вот. А можно мне…
– Да забирайте…
Ошейник щелкает на бывшем туристе, вывожу пленного, стараюсь не встречаться ни с кем взглядами.
– …вот здесь вот крепостная стена идет… а дальше ворота… пойдем… вот мы через них проходим, дальше домик такой кривой, с одной стороны повыше, с другой пониже, а вот тут арка, а за ней внутренний дворик с фонариком наверху…
Он смотрит, вернее, делает вид, что смотрит – все еще не могу поверить, что он ничего этого не видит.
Нам еще многое предстоит рассказать друг другу, я должен ему в красках расписать все эти города, а он еще расскажет мне, где его дом, которого нет, и его родные, которых нет, и его судьба, которой нет…
Мы еще найдем все это.
Обязательно.
Абажуть
Однажды вечером я пошел выгуливать свою настольную лампу…
…впрочем, большинство моих историй начинаются именно так – однажды я пошел выгуливать свою настольную лампу. Беру её в руку, спускаюсь по лестнице, как всегда. Лампа тускло освещает кусочек улицы, тени от лампы бегут по стенам домов, все чинно, все тихо-мирно, все хорошо.
И тут-то начинается.
– Совсем охренели, с лампами выходить!
Это какая-то дама в страусовом боа.
– Почему не в клетке?
Это какой-то господин с сюртуком, именно, что не в сюртуке, а с сюртуком, тоже, видно, несет выгуливать.
Терпеливо объясняю, что лампу не положено держать в клетке, это же лампа, а не птица какая-нибудь, – господин вспыхивает:
– Я астроном, я лучше знаю!
Какая связь между астрономом и лампами, даже не спрашивайте.
– Берта! Китти! Осторожнее! Сюда! Лампа! Лампа!
Приподнимаю лампу, думаю, что мамочка зовет детей посмотреть на лампу – как бы не так, хватает дочек за руки, тащит прочь в темноту ночи, боится, ну, правильно, лампа же ужас, какая страшная…
– Да она тут сожжет все, куда полиция смотрит!
Это какая-то необъятная тётка в павлиньих перьях. Присматриваюсь, понимаю, что перья у неё не павлиньи, а её собственные, они из неё растут.
– Почему они говорят, что я все сожгу? – спрашивает лампа, – я же электрическая!
– Ну, знаешь… – пытаюсь объяснить, не могу, – просто… есть люди, которые не любят лампы.
– Удивительно, – говорит лампа, – как же можно не любить лампы? Они же светят!
– Ну… может, людям не нравится, когда светят…
Иду дальше, стараюсь свернуть туда, где поменьше людей, где никто не увидит нас с лампой. Мерцают деревья в темноте ночи, подсвеченные лампой, любуюсь переплетением ветвей. Кто-то спешит ко мне по дорожке, вот ведь черт, только хорошей драки мне сейчас не хватало…
– Позвольте… позвольте!
Взъерошенный парень наклоняется над лампой, подносит под абажур раскрытую тетрадь в толстом переплете, торопливо записывает. Мы с лампой ждем – терпеливо, трепетно, мы понимаем – здесь создается искусство, что-то новое, стихотворение какое-нибудь, нет, не стихотворение, – ноты, ноты, ноты, – мелодия…
– Спасибо! Спасибо! – он убегает в темноту ночи, я даже не успеваю ответить – не за что.
Иду дальше, и что вы думаете. Нет, я уже знаю, что если я пойду выгуливать свою судьбу, что-нибудь с нами обязательно да и случится, оно всегда что-нибудь да и случается. Но такого даже я не ожидал, даром, что на что только не насмотрелся. Бросается ко мне прилично одетая дама, хватает мою судьбу за поводок: