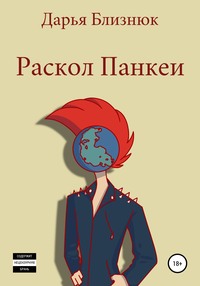полная версия
полная версияНад маковым полем
Не знаю, был ли это зов, но я выхожу из подозрительного сатанистского угла и волокусь навстречу манящим творожным шарикам в шоколадной глазури. Как новоиспечённый матрос на вой Сирен. Как мышь в мышеловку с сыром.
О дивный новый транс
Дали ковыляет в трубе цвета овечьей шерсти и никак не может взять в толк, что с ним творится. Мысли спутаны, словно наушники в кармане, что, впрочем, совсем неудивительно, поскольку до этого дня Дали не имел подобного опыта путешествий. Во времени? В измерениях? Ровность и гладкость помещения нервирует юношу, и ему всё сильнее хочется вернуться в зону комфорта. Усесться по-турецки перед телевизором, отхлебнуть Колы и отстраниться от сложных размышлений. Белизна уже режет глаза, Дали болезненно щурится и, чтобы поскорее закончить это путешествие, отворяет дверь с надписью «1894-1963».
В мгновение ока перед ним вырастает огромный книжный шкаф, окутанный тёплым глухим светом. Стоявший у стены стол покорно держит на своей спине огрызки карандашей, исписанные тетради, на минуту снятые очки и всякие учебники. В кресле, слегка качаясь, отдыхает опрятный, интеллигентный с виду мужчина. Его руки покоятся на коленях, а волосы зачёсаны назад. Дали чувствует себя сконфуженным, что застал человека не в самое подходящее время, и уже собирается выскочить обратно, но тут интеллигент опоминается и, встрепенувшись, ловит Дали взглядом:
«Кто, кто вы?» – всё ещё приходя в себя, бормочет он, нащупывая рукой очки. Когда те подворачиваются под пальцы и уютно устраиваются на носу, то и сам мужчина обретает уверенность.
«Да так, никто, – отзывается Дали, гадая, как лучше себя вести. Всё-таки души, наверняка, усопшие. Если обидятся – проклянут или, того хуже, кирпич на голову сбросят. – Позвольте спросить, – удивляясь своей новой манере речи, повышает интонацию подросток, – чем вы тут только что занимались?» – он застывает от волнения. Вдруг наступил на мину?
Но лицо собеседника смягчает благосклонная улыбка, и по комнате разливается спокойный голос:
«Я входил в транс, – поясняет он, – обычно после этого мне легче пишется. Иногда я погружаюсь в глубокую рефлексию, достигая тем самым полного расслабления, но не теряя восприятия реальности. Под влиянием гипноза я же это восприятие утрачиваю и обнаруживаю, что стаю на дне широкой ямы. Перед собой вижу голенького младенца на бархатном песке, которого с любопытством разглядываю. Он начинает расти: начинает ползать, учится ходить, играет, разговаривает. Самое интересное, что я ощущаю его субъективный опыт, сочувствую и сопереживаю ему. Я следую ему в искажённом времени через множество ситуаций, когда тот поступает в школу, встречает юность, и, наконец, замечаю, что ребёнок превращается в молодого мужчину – меня. Теперь я ясно воспринимаю себя не только как пятидесятидвухлетнего, но и как двадцатитрехлетнего: оба пытаются определить, кто из них настоящий, и у обоих одновременно возникают одинаковые мысли. Прошло много лет, прежде чем я овладел самогипнозом», – откровенно делится незнакомец. – Оу, – спохватывается он, – совсем забыл представиться. Я Олдос Хаксли, писатель».
«Ясно», – протягивает Дали. Это имя ни о чём ему не свидетельствовует, и потому не возникает запоздалого преклонения или фанатизма.
«Как же вы ко мне забрели?» – вскидывает брови Хаксли.
«А я и сам без понятия», – пожимает плечами Дали. Может быть, он заблудился? Или засмотрелся? Или вовсе потерял грань между мирами?
«Раз вы всё-таки здесь, то смею предложить вам погружение в гипноз. В этом деле меня натаскал сам Милтон Эриксон. Мы занимались вместе, когда ещё не сгорела моя библиотека…» – погружается в воспоминания философ.
«Пожалуй, это именно то, что мне нужно», – обрадованно кивает долговязый подросток.
«В таком случае закройте глаза – как только вы их закроете, то войдёте в глубокий транс. Пока будете прислушиваться к звуку моего голоса, придёте во всё более расслабленное состояние. Должно быть, вам любопытно, что произойдёт далее… Вы можете продолжать ощущать все то же, что и до транса. Однажды на вашем месте уже побывал Джон, и ему было очень хорошо. Ему было очень хорошо, как табурету в пустыне. Вы этого хотите. Вам очень приятно. Возможно, вы ощущаете волнение, но в то же время и комфорт. И ваши стопы в ботинках, и напряжение в ваших плечах, и потребность проследить за мыслями, и ваше физическое состояние, и безмятежная отрешённость, и монотонность шкафа с карточками, и глубина вашего дыхания, и радость пассивного научения, и работа вашего подсознательного…» – тихо льются слова, и отвлечённый Дали полностью открыт для внушений.
Впрочем, он находится в самом естественном для себя состоянии.
Куда улетают утки
Андерсен не знает, как и кого благодарить за то, что проник в обитель гениальных умов. Его мысли безудержно носятся в лобных долях, а восторг и возбуждение буянят в лимбической системе так, что Умберто не может остановить их бурный поток.
Но Умберто следует напрячься и для начала определить, в чьи владения наведаться. Интуиция подсказывает, что времени остаётся в обрез, и потому Андерсен должен поспешить. Язык безостановочно облизывает губы, пальцы то сплетаются в замок, то строят другие причудливые фигуры, но это нисколько не помогает совершить выбор. Конечно, самым ярким кандидатом является Гоголь, автор «Мёртвых душ». Известно, что ему не удалось написать два последующих тома. У него не получилось преобразить своих искажённых жадностью персонажей. Его герои не то что до Рая, даже до Чистилища не добрались. Может быть, если Андерсен узнает, какое развитие сюжета планировал писатель, то сможет реализовать его идею? Что если Андерсен доведёт начатую историю до конца? Что если у него получится изменить Чичикова в лучшую сторону и тем самым подать пример всем читателям? Показать им подлинную красоту? Донести то, что безмятежная жизнь по морали возможна? Как же его соблазнял этот вариант!
Но на более глубоком уровне Андерсен понимает, что не упустит шанса повидаться с Джеромом Сэлинджером, создателем мирового бестселлера «Над пропастью во ржи». Именно эта книга, по мнению Андерсена, является воплощением депрессии. Именно она травит молодёжь и наделяет апатию загадкой и изяществом. Да, его суждения звучат довольно громко и враждебно, но зато в них есть честность и прямота. Андерсену ужасно не терпится поспорить с некогда любимым творцом, приблизиться к его таинственной персоне и открыть для себя новые взгляды на ситуацию. Но за какой же дверью скрывается нужный кабинет?
Парень, запыхавшись, бегает по этажам, отбрасывая неподходящие номера и, в конце концов, оказывается на пороге грандиозных изменений. На деревянной дощечке значится: «1919-2010». Дыхание зависает у носа Андерсена, смятение наполнят грудь, а горло охватывает дрожащая неуверенность. И что, стучаться или сразу входить – суетится мокрый юноша. Постучав и не встретив ответа, он распахивает дверцу и следует внутрь.
Комната обставлена поразительно скромно, а её хозяин, судя по позе и абсолютно разглаженному лицу, медитирует или занимается чем-то вроде этого. Немного полюбовавшись гармонией и насладившись полнотой мига, Андерсен всё же решается его прервать.
«Мистер Сэлинджер, – пробует воздух, – добрый день, – шаблонно продолжает Андерсен, хотя не уверен, существует ли понятие времени в загробном мире, и даже если оно есть, не факт, что сейчас день. Даже не факт, что он добрый. – Я бы хотел побеседовать с вами», – кашляет он.
«Я не даю интервью, – катится ровный голос, – и вообще, я не желаю общаться с людьми», – холодно чеканит он.
Ну вот, расстраивается Андерсен.
«Что Вы? Я ни в коем разе не собирался Вас записывать или обижать. Всё, что мне нужно, касается только Вас и Холдена Колфилда».
«Холдена Колфилда? – ведёт бровью буддист. – Что ж, я готов ответить на твои вопросы», – снисходит он.
«Правда? Здорово! – радуется победе скиталец, но тут же ловит недовольный взгляд. – Видите ли, – начинает он, – в современном двадцать первом веке люди, особенно молодое поколение, погрязли в депрессии и однообразной рутине. Скука стала самым распространённым явлением, а внутренний разлад символизирует возвышенность над остальным невежественным скотом. Я думаю, что на эту моду значительно повлияла литература. Ваш Холден Колфилд подаёт дурной пример. Он пропагандирует несчастье и всё такое», – осторожно подбирает слова Андерсен, но читает в глазах собеседника однозначное несогласие.
«Чего же тебе от меня надо?» – резко прерывает его Сэлинджер.
«Я хотел бы помочь Холдену. Сделать его чуточку веселее. Ну, исправить текст…» – аккуратно бормочет Андерсен, понимая, что обречён встретить отказ, сопровождаемый шквалом негодования.
Но Джером хоть и выглядит оскорблённым, держится вполне вежливо и достойно. Всё-таки годы медитации не проходят даром.
«Нет, – качает головой он, – нет. Холден Колфилд настоящий. Он не будет лицемерить. Я лишь отражал боль существования предельно правдиво. Я говорил от лица всех подростков. С помощью Колфилда они обретали голос. Я лишь писал о том, что есть. Ничего не выдумывал. Я всегда стремился быть честным. Зачем же приукрашивать жизнь? Это липа».
«Но именно такие романы порождают любовь к унынию! – не унимается Андерсен. – Герои ведут за собой целые толпы, и именно они сталкивают детей в пропасть!» – разгорячается он.
Фразы, словно пули из браунинга, вылетают из его горла и ранят в самое сердце. Подобные метафоры Лох называет штампами.
«Что? – внезапно откликается писатель. Видимо, на него действует последнее изречение. – Холден толкает детей в… пропасть? Нет, он ловит их. Спасает», – сухо жеуёт челюстями бывший кумир.
«Только на практике всё иначе», – хмыкает Андерсен, ликуя, что нащупал больную точку. Разгадал Ахиллесову пяту.
«Что ж, я всё равно ничего не могу сделать. Значит, одно вызывает другое», – пожимает плечами Сэлинджер.
«Тогда на что же всё опирается?» – вызывающе спрашивает Андерсен.
«На нас самих», – задумчиво отзывается Джером.
«И правда, на нас самих, – соглашается его гость, примеряя столь простое открытие на происходящее на Земле. – Извините меня за беспокойство, – направляется он к выходу, – и спасибо за внимание».
Невзирая на то, что Андерсен всё же находит ответ или, по крайней мере, приближается к разгадке, Умберто тонет в разочаровании. Он-то, наивное летнее дитя, надеялся на утопию, на массовое счастье, а получается, что нужно терпеть и носить индивидуальную улыбку. Делать счастливое лицо, подобно Джокеру.
«Слушай, малой, – останавливает его Сэлинджер, – мой отец рекомендовал мне стать королём бекона. Поэтому не сдавайся, – сердечно напутствует он. И его благословение действует, словно добрая шутка после стихов Бродского. Оно окрыляет и превращает ладонь в кулак. – И да, – окликает его Сэлинджер в последний раз, вновь усевшийся в позу лотоса, – ты не знаешь, куда улетают утки, когда пруд замерзает?»
«Не знаю. Говорят, что в тёплые страны: Африку, Египет. Трудно предсказать, какой путь выберет стая. Всегда по-разному. Поселяются в степях, у водоёмов, где есть камыш».
«Благодарю», – с облегчением вздыхает Сэлинджер так, словно, наконец, ложится в тёплую постель.
Возвращение
Купидон неспешно прогуливается, не боясь и не предвкушая встреч. Заглядывает в случайную коморку, болтает с одним чуваком по имени Энтони Бёрджесс, которому приходится ответить на бестактные вопросы о своей смерти и посмертии. Оказывается, что скончался он от рака лёгких, был преподавателем в каком-то институте, принимал участие в войне и написал культовый роман «Заводной апельсин». Пока они чешут языками, в ушах звучит музыка. Этот Бёрджесс даже делится её названием, но Купидон, при всём уважении, его не запоминает. Той информации, что это симфония, достаточно. Когда в их разговоре образовывается дыра, Купидон предлагает прикурить, но вспоминает, как отбросил копыта господин в галстуке, и потому возвращает сигареты в карман. Между прочим, этот Энтони имеет приятную внешность и, должно быть, в молодости был ещё тем сладким пупсиком. Но вскоре очертания бледнеют, а голова кружится, как юла. Старикашка всё ещё что-то хрипит про выбор, но Купидон уже не слушает его и возвращаетсяя в свой мир. Гадкий, отвратительный, но свой.
Спичка
Когда я вновь прихожу в своё тело и разуваю очи, то встречаю целую октаву встревоженных глаз. Парни бессовестно пялятся на мои голые ноги без единого волоска и не скрывают возбуждения. Извращенцы! Облизываются перед божественным соитием! Хотят вымочить свои пенисы в соках женской страсти! Но не тут-то – я не из семейства Давалкинс.
– Чего это вы уставились? – надуваю губки, как бы небрежно поправляя растрёпанные локоны.
– Я боялся, что ты не проснёшься, – дрожа, переводит дыхание Купидон.
– С чего бы это вдруг? – игриво хмыкаю, медленно поднимаясь с пола.
Слабые мышцы едва подчиняются воле, отчего приходится с трудом подтягиваться и усаживаться в кресло. Сбиваю накидку. Откидываюсь на подушку. Готова поспорить, что внутри у неё самый дешёвый сбитый синтепон.
– Что это за хрень вообще была? – первым заговаривает Дали, поднимая общие сомнения. – Я видел какого-то сумасшедшего гипнолога, пока валялся в отключке! – возмущённо машет руками он.
Значит, не я одна имела честь поболтать с чокнутым толстяком.
– Мне тоже мерещился один чувак, – встревает Лох, – вы не поверите – я общался с самим Кафкой! Ну и бредятина, конечно, – качает головой худой подросток.
– Так, что ли, мы взаправду в этом лабиринте пошатались? – удивляется Купидон.
– Похоже на то, – признаёт Андерсен, – только я не понимаю, как…
– Не парься, детка, – прерывает его Купидон, хлопая рукой по колену.
– И что же? Мы действительно посетили души писателей? С кем именно вы беседовали? – от волнения мечется Андерсен.
– С неким Кроули, – тихо отвечаю. Куда успел исчезнуть мой голос? Откуда этот странный барьер в горле, препятствующий свободному перемещению воздуха? В слова так и норовят вмешаться звуки «х» и «к». – Он нёс какую-то ахинею про волю и смысл, а ещё тасовал карты Таро Тота и называл себя Зверем 666, – напрягаю гортань.
– Мне попался какой-то Бёрджесс. Мы с ним музлишко послушали, поболтали дружно, – закуривает Купидон.
– Этот гипнолог представился Олдосом Хаксли, – добавляет Дали, – он меня в транс вводил.
– И как? – интересуется Лохматый.
– Ничего себе… – ошарашенно зависает Андерсен.
В его глазах бурлят гнусные пузыри восторга и энергии. Как же бесит его воодушевление! Почему это он должен пылать и светиться, когда я угасаю?
– А ты-то с кем сплетничал, дурачок? – насмешливо кривлю я губу, желая растереть по его самодовольной роже воздушный крем, чтобы он слизывал его и захлёбывался калориями. Лёгким чистыми калориями. И чтобы трансформировался он в беспонтовую мясную гусеницу.
– С автором бестселлера «Над пропастью во ржи», – откуда-то издалека отвечает мерзавец.
– И что же? – хмыкаю я.
– И понял, что не имею права переписывать ни строчки, – грустно констатирует он.
– То-то и оно, неудачник, – довольно язвлю, отмечая хоть какую-то справедливость.
– И что теперь делать будем? – подтягивается к разговору Купидон. – Можем разбегаться и жить, как раньше?
– Нет, – решительно отказывает Андерсен, – не-ет, – растягивает он, – определённо нельзя продолжать загонять себя в могилу, – рассуждает парень.
– С каких пор ты стал за меня решать? – фыркаю я, искрясь от возмущения. Нашёлся командир!
– А с таких! – неожиданно срывается наш порядочный мальчик. – Посмотри на себя, ты даже ходить нормально не можешь! Тебе же мозги лечить надо! Ты умрёшь через пару недель, если будешь и дальше сажать свой желудок! У тебя же все органы сжались, дура ты ненормальная! – грубо хватает он мои плечи.
– Не тронь меня, ублюдок! – кричу я. – Отпусти, сука! Заткнись, тварь! Я сама решаю, что могу есть, а что не могу! Уже поперёк горла вся ваша забота, скоты безмозглые! Вам не понять, каково быть жирной никому ненужной гадиной! Я и так дохрена вешу! – рычу, захлёбываясь вязкими слюнями.
– Спокойно, – говорит Купидон, – спокойно…
– Иди нахрен отсюда! – посылаю его. Первый стоит в очереди спасения, гуманист вшивый! Только я не нуждаюсь в их лживой опеке. Всё, чего я хочу – это кататься в чёрном блестящем лимузине с кем-то вроде Джона Кеннеди, чтобы этот кто-то целовал мою нежную бархатную шею. Лизал мою нежную бархатную шею. Кусал мою нежную бархатную шею. Чтобы он мягко разводил мои ноги и вставлял в мою пи-пи. Но если я буду есть, то стану типичной тупой домохозяйкой, на которую не клюнет даже рыхлый, неуверенный в себе мужик! – Отцепитесь вы все от меня! Я хочу побыть в одиночестве! – рыдаю так, что по щекам ползёт тёмно-синяя тушь, но меня продолжают сковывать крепкие руки.
Кто-то прижимает к себе, кто-то гладит по голове, а кто-то неспешно шипит, словно качая ребёнка. Спасатели хреновы.
Постепенно тепло от прикосновений, жар ладоней, прижавшихся к талии, и невинные поцелуи в лоб успокаивают разогнавшиеся сердце, и я затихаю. Прислушиваюсь к своему прерывистому дыханию. Перевожу дух. Думаю, что порой тактильный контакт может иметь поразительные результаты. Наверное, девяносто девять процентов самоубийц не сделали бы того, что сделали, если бы их обняли.
– Извини, – хрипло просит Андерсен, когда затихает буря в стакане. В данном случае стакан – это я. И он наполовину пуст. Наполовину полон. Больше никто не решается произнести ни звука. Боятся. Слабаки. – Давайте попробуем отпустить то, что нас гложет? – робко предлагает.
– Давайте, – соглашается за всех Купидон, понимая, что, кроме него, никто не пикнет.
– Хорошо. Тогда накиньте что-нибудь вроде ветровок, и выйдем на улицу. Подышим свежим морозцем. Немного взбодримся, – сухо звучит Андерсеновский голос, после чего все лениво начинают натягивать тёплые вещи.
Дали погружается в свою джинсовку, Лох ныряет в ещё один потный свитер, покрытый катушками. Купидон берёт толстовку кирпичного цвета, а я оборачиваю вокруг себя лавандовый палантин. Андерсен находит свою старую куртку, и мы тихо, словно беда, близимся к выходу.
Лестничная площадка встречает нас объёмной тишиной и сизой плёнкой бледного света. На ступенях что-то разлито, из щитка торчат провода. Купидон предлагает скатиться на лифте, но я не собираюсь упускать возможность потратить лишние калории и неуклюже двигаюсь по лестнице. Ребята степенно плетутся следом. Когда мы высыпаемся на улицу, обнаруживаем, что город накрыла глубокая ночь. На улице безлюдно и просторно. Фонари рыжими огнями рассеивают мрак, а пар изо рта отображает танец дыхания и уносится в агатовое небо, тая на полпути. Мне довольно зябко: холод колючими иглами впивается в кожу, но я только рада повысить степень своего восприятия. Пусть плоть отвердеет, пусть затрясутся поджилки, пусть околеют конечности.
Какое-то время мы не двигаемся и думаем о чём-то личном. Только меня не навещают сокровенные красивые воспоминания, и становится слегка досадно, но не настолько, чтобы испортить покойное настроение. Вскоре наше внимание привлекает прерывистая пляска пламени в мусорном контейнере у соседнего подъезда. Будто светлячки, мы направляемся к его миганию, примеряя всякие метафоры про надежду, последний вздох и всё такое. Должно быть, огонь схватился из-за непотушенного окурка, попавшего на тряпку или дерево. Или бумагу.
– А спалим-ка все наши горести к чёрту! – кашляет Андерсен, капаясь в карманах. Вскоре из текстильной ямы возникает обгрызенный карандаш и мятый блокнот не больше восьми сантиметров в длину. – Напишем, что нас удручает, и сожжём вместе с прочим хламом. Все наши проблемы такой же мусор, – резонно замечает он, уже чёркая грифелем в светло-голубых клетках. Вскоре блокнот и карандаш кочуют в руки Дали. Тот передаёт принадлежности Лоху, Лох мне. И что же меня удручает?
«Лишние килограммы» – пишу и отдаю записку на съедение яростным искрам.
«Постоянная усталость» – пишу, и ещё один листок улетучивается в миниатюрное пекло.
«Желание съесть круассан с варёной сгущёнкой» – пишу, и круассан поджаривается до пепла.
«Я» – пишу я и продолжаю самосожжение.
Сон
После того как Андерсен приходит в себя и проводит ночь на улице, он понимает две вещи: первая – за помощь могут убить; вторая – выбраться из пропасти будет не так-то просто. Мэрилин отчаянно цепляется за свои убеждения и слепо лелеет мысли о похудении. Лох, как всегда, выглядит угрюмым, а Дали лазит в телефоне. Почему они все без Умберто в голове? Андерсен уже не знает, что предпринять, чтобы поднять моральный дух товарищей. Как дураки, стоят они октябрьской ночью и жгут бумажки, наделяя этот процесс ритуальным значением. Но к утру компания замерзает, словно на девятом кругу Ада по Данте.
– Как в холодильнике, – говорит Мэрилин Монро.
– Как в холодильнике, – соглашается Купидон.
И они возвращаются в скрипучую квартиру. По очереди принимают горячий душ и укладываются по своим краям. Андерсен разделяет диван с Дали, а на двухместной постели ютятся Лох, Купидон и Монро.
Андерсен неподвижно лежит у стены, стараясь не отвлекаться на пиканье игры Дали. Самодельный браслет-шамбала из деревянных бусин мирно окольцовывает запястье, широкая футболка слегка прилипает к телу. В ванной до сих пор зависает Лох, то ли выдавливая угри, то ли… То ли ища местечко, куда воткнуть.
Как-то незаметно и моментально Андерсена покидают силы. Его уже вконец изматывает борьба с пессимизмом и постоянные провалы. Вначале он разочаровывается в классике, теперь разочаровывается в себе. Под метроном собственного сердца юноша отдаётся в лапы поверхностного сна.
Со всех четырёх сторон его окружает нежное аквамариновое небо. Оно забирается под одежду, окутывает воздушным шарфом и несёт по своему течению. Внизу тянутся холмистые равнины, кляксы озёр и крошечные домики. Вскоре гармоничный пейзаж сменяет окраску, и кажется, что его затапливает алый клюквенный сок. Что бурная кровь, неважно какого резуса и фактора, наполняет безмятежную долину. Бескрайнее поле маков вспыхивает, словно факел, и дух замирает от восхищения, и невероятный покой обосновывается в груди. Кажется, что на эту картину можно смотреть двадцать пять часов в сутки. Любоваться ею. Отдаваться созерцанию. Быть наедине с природой. Но помимо чёрных семян в багряном океане виднеются спящие дети. Их одежда грязная и порванная, а кожа серая и исцарапанная. Андерсен ясно осознаёт, что они больны, и хочет выдернуть их из обманчивых грёз. Летящий юноша кричит, что есть мочи, стараясь достучаться до их разума, но дети остаются глухи. Они не слышат его. Или не желают слышать. Они утопают в выдуманном счастье. Растворяются в тепле. Таят в ласковой мягкости собственных тел. Они уже ушли в опиумный мир. В наркотический мираж. В маковое великолепие. И Андерсен ничего не может поделать.
Чайка по имени Андерсен
Страдать легко. Страдать модно. Страдать выгодно.
Лох любит лекарства Купидона не только за минуты растворения в сладком сиропе счастья, но и за соматические болячки. За распад личности. За деградацию. За ужасную чесотку и потерю веса. Лох не дыша колдует над ватой, ложкой и стрелой. Замирая от экстаза, внутривенно вводит порцию любви. Лох путается в плюшевых щупальцах солнца и садится на пол. Прямо в лужу.
– Здравствуйте, уважаемая пьяная лужа, – невнятно говорит он, – позволите ли вы утонуть в вашем глубоководном животе? – хихикает он и принимается плескаться.
Вскоре лужа вырастает до океана, и Лоху чудится, что он голышом нежится на нагретом песке и улыбается кричащим чайкам. Но вскоре бледно-жёлтый диск закрывает огромное тёмное пятно, а чайка обретает человеческий баритон.
– Что с тобой, Лох? – тихо спрашивает Чайка.
– Что с твоими глазами, Лох? – громче спрашивает Чайка.
– Дай мне показать тебе прелести обычной жизни, Лох, – жалобно просит Чайка.
– Мхм-мхм, – щурится Лохматый, махая руками, словно крыльями.
– Лох? – теряется Чайка, но хватает его под мышками и уносит с собой за причудливые холмы и волнистые деревья.
Весь мир приобретает формы экспрессионизма. Он изгибается, растекается, как кисель, и приковывает к дивным фигурам. Теперь понятно, откуда Эдвард Мунк и Ван Гог набрались таких впечатлений. Может быть, и Лох станет художником? Живописцем двадцать первого века? Он сольёт предметы воедино, рыб поместит на ветки, а птиц заключит под землю. Цветы начнут опылять пчёл, огонь убивать воду, а добро побеждать зло. Осень покрасит волосы в розовый, собаки начнут мяукать, а люди улыбаться. Лох превратит реальность в картинку, а полотно в действительность, и все будут уважительно снимать шляпы, здороваясь с застенчивым парнем, а он отказываться давать интервью. Но самое главное, что Купидон скажет: «Какой талантливый пупсик!» Он восхитится им, согреет в своих поцелуях, и их тела обернутся одним существом вроде двуглавого орла или Орфа.