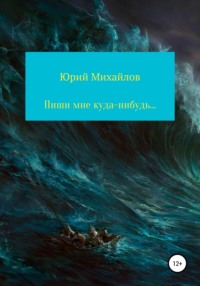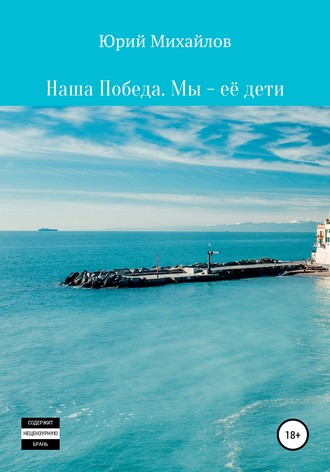 полная версия
полная версияНаша Победа. Мы – её дети
– Кроме моей мамы, с которой ты знаком, у нас не будет стариков… – и, увидев, как он разом погрустнел, поправился, – не в твой адрес камушек, она старше тебя на двадцать лет, поздно родила меня… А так, одни студенты будут и функционеры, – в то время, не найдя работы в газете, я пришёл в комсомол, занимался учащимися.
Он обрадовался, что не будет "пьяных" рассказов о войне и что из коробочки не надо доставать медали. Тогда фронтовики почти все были неразговорчивые, не любили ни награды надевать на грудь, ни языком болтать. Да и докучать кому-то на свадьбе расспросами по-дурацки бы выглядело. Но, по прошествии некоторого времени, я спросил у молодой жены, где и как воевал наш батя. Она отмахнулась, сославшись на ту же причину: отец не любит говорить о военном времени. Но фраза, что он, провоевав почти всю войну в дивизии имени Дзержинского, вернулся домой почти через три года, в сорок восьмом, меня несколько удивила.
Разговорились мы после большого застолья, устроенного родителями в честь нашего с женой приезда, когда все друзья отца уже разбрелись по своим квартирам. Он тогда ещё откровенно попросил, чтобы я повнимательнее отнёсся к мужским обязанностям: выпили прилично, надо помнить о хмельном зачатии… Я порадовал его, сказав, что жена уже беременная, и он расплакался, так тронули мои слова. Сидели мы в свободной третьей комнате квартиры и не пускали к себе женщин: курили "Беломор", у меня своих сигарет не было, но я и не страдал никотиновой привычкой, отец где-то достал настоящего чешского пива, "рихтовали", как выразился он, выпитое на застолье.
Как вышли на разговор о войне, не помню, только я увидел вдруг, что он сжался, но, видимо, понимая, поздно или рано, ему придётся об этом говорить, не замолчал, стал рассказывать медленно, с трудом подбирая слова:
– Я с 24-го… Помнишь фразу одного командующего фронтом: самая большая смертность пала на этот год рождения. Из пятерых – четверо были убиты, не закончив войны. Дивизию Дзержинского ты знаешь, я попал в неё не с самого начала войны, молод был, и угодил – прямо в Харьковский котёл. Там наших регулярных войск практически не осталось, дзержинцев бросали и бросали в атаку на укрепрайоны, где мыши невозможно было прошмыгнуть. В общем, крещение прошёл ещё то: от нашего взвода в живых осталось несколько человек, – отхлебнул пива из бокала с тонкими стенками, долго молчал, думал, наверное, как перейти к моментам службы, которые очень волновали его, – потом в заградительных отрядах был, держали солдат на линии обороны, чтобы, не дай бог, не бросились бежать. Страшно не только вспоминать, думать не хочется, а ведь ещё надо жить с этим грузом. А о переселении южных народов – не хочу даже вспоминать. Но поверь мне, говорю, как твой отец: ни одного выстрела наш взвод не сделал, когда местные жители собирали пожитки, ехали до станций с железнодорожными составами, грузились в теплушки… Хотя провокаций и вооружённых засад было немало.
Он говорил и говорил, а я – молчал, боясь остановить его, понимая, что отец, наверное, впервые так откровенно рассказывал, ничего не скрывая от собеседника. Оказывается, приходили к нему пионеры из поселковой школы, спрашивали: "Дядя Коля, расскажите о войне, о том, как вы воевали?" "А что я мог им ответить? – отец почти плакал: то ли выпитое вино сказывалось, то ли, действительно, он так переживал, – говорил детям, что служба была неинтересная, связанная с патрулированием, наведением порядка при отступлениях или при наступлениях войск. Ведь это же десятки тысяч солдат и техники приходят в движение. Просили интересные эпизоды рассказать, как фашистов бил, дошёл ли до Берлин? А как я могу рассказать о том, что нас ещё до окончания войны отправили на подготовку Парада Победы, наши войска ещё лупили фашистов в Германии, а мы уже готовились к самому радостному и памятному для солдат событию – параду. А в июне 45-го, когда проходили по Красной площади, я нёс какой-то фашистский штандарт и бросил его к подножию мавзолея…
После войны отцу приходилось вместе с другими войсками заниматься и восстановлением разрушенного хозяйства страны, и нести патрульную службу, поддерживать порядок на улицах, на демонстрациях трудящихся и праздничных мероприятиях, типа дня физкультурника. Он даже показывал себя в эпизоде кинофильма с марширующими физкультурниками в августе 45-го года. Вернувшись домой после войны с опозданием более, чем в два года, отец всегда задавал себе вопрос: "А я – воевал, защищал Родину?" Хотя ответ, по примеру других стран, лежал на поверхности: солдат выполняет приказ, если он начнёт раздумывать, рассуждать, насколько гуманен тот или иной приказ, враг вломится в его дом, захватит его деревню, город, Родину…
И ещё отец знал, что в Ясной Поляне, где в доме Льва Толстого немецкие фашисты устроили конюшню и всё подготовили для сожжения имения великого писателя, никто не вымаливал у них пощады. Местные жители спасали постройки, как могли, и спасли, не дав разгореться пламени. И в тысячах других селений и городов нашей страны, временно захваченных Германией, для фюрера не готовили белого скакуна с золотой или серебряной уздечкой. И, тем не менее, всё-таки были такие факты… Без сомнения, это провалы нашей национальной политики, но факты – упрямая вещь. О возможном предательстве в некоторых регионах наши солдаты были проинформированы, поэтому они, без колебаний, выполнили приказ…
Обо всём этом мы смогли ещё раз поговорить с отцом перед его смертью, когда до своего 75-летнего юбилея он не дожил несколько месяцев. Истерзанный болезнью, старыми ранами, но освободившийся, как на исповеди, от мучивших его всю жизнь вопросов, уходил спокойно, с чистой совестью. А в этом году его внук, в день прохождения "Бессмертного полка", прислал мне видеосообщение: на фото портрет моего тестя, он в солдатской форме, с автоматом, молодой, совсем мальчишка. Чуть ниже – подпись: "Рядовой дивизии имени Дзержинского… (ФИО). 1924-1999гг."
9 – Школьное сочинение
Давным-давно услышал рассказ знакомой женщины, проживающей в глубинке, опубликовал его в сетевом литжурнале под заголовком "Школьное сочинение". Откликов на эту, на мой взгляд, удивительную историю набралось много. Сочинение начиналось эпиграфом: "Люди мира, будьте зорче втрое! Берегите мир! (Муслим Магомаев).
Мой отец, Керимов Анвар Керимович, погиб на войне в 1944 году. Я в семье третий ребёнок, девочка. Два брата старше меня, один работает на фабрике, его зовут, как и отца, Анвар. Второй учится в физкультурном техникуме, его зовут Вазих. Меня назвали Мявтюха, а по-русски все зовут Маруся. Мама и старший брат рассказывали мне, что к нам приезжал из Смоленской области папин друг, дядя Боря. Они вместе воевали больше года, содержали артиллерийских коней, перевозили полковые пушки. Они очень дружили, у них был общий табачок, химический карандаш и тонкая тетрадочка в клетку для писем. Папа плохо писал по-русски, поэтому дядя Боря часто писал письма под его диктовку. Я потом нашла эти письма, читала и плакала. Было страшно, как просто отец говорит о смерти, как ему жалко добивать раненных коней и пускать их на мясо, как он скучает за всех нас, за жену и своих детей. Ещё он верил в Победу, в 44-м он знал, что скоро будет Победа, писал об этом. И мечтал дойти до Берлина. Не дошёл. По рассказу дяди Бори, он спасал коней, попавших в полынью на озере. Лёд не выдержал, пушка утонула сразу, потащила за собой коней. Отец резал-резал ремни, не успел. Так все и ушли под лёд. Теперь я знаю, что на войне солдаты погибают не только от пули врага. И вот так, спасая коней. Его захоронили на севере, на берегу карельского озера, могилу мы не смогли найти. Имя папы выбито на мемориальной доске нашего посёлка, у вечного огня. Пусть лежит рядом с нами, в центре посёлка. Мы закопали у памятника его химический карандаш и кисет, в котором он хранил табак. Их привёз с собой фронтовой друг, дядя Боря из Смоленской области. В списке погибших больше двухсот человек, не вернувшихся с войны. Почти все работали на нашей ткацкой фабрике. У всех остались дети. Но мы уже подрастаем, скоро закончим школу, пойдём работать на фабрику и учиться. А где могила отца, мы так и не знаем".
Маруся сдала сочинение учительнице по литературе Варваре Семёновне. Девочка училась в девятом классе школы – одиннадцатилетки, осваивала профессию ткачихи. Высокая, статная, с русой косой до пояса, она походила на красавицу из русских народных сказок. Никто и не догадывался, что в свидетельстве о рождении написано Мявтюха Анваровна, Маруся и Маруся. Учится хорошо, любит литературу и русский язык, много читает, ходит в спортсекцию и драмкружок, играет Марью Антоновну в "Ревизоре". Воздыхателей у неё набралось многовато для маленького посёлка, но Маруся строгая, и подростки боятся подходить. При всех на танцах в клубе ударила за мат Генку Кабанова из 10-а, тот упал, стукнулся головой о стулья, потерял сознание. Пришлось вызывать дежурную сестру из медсанчасти фабрики. Да и старший брат, Анвар, строгий, приглядывает за сестрой.
В учительскую Марусю вызвала Варвара Семёновна на большой перемене, когда все обедают. Девочка увидела на столе свою тетрадь для сочинений. Почему-то заволновалась, поправила косу, достала из кармашка школьной формы мамин белый платочек с кружевами.
– Маша, – сказала учительница, – надо знать, что Муслим Магомаев не писал песню "Бухенвальдский набат"… Её написал Вано Мурадели. Это первое. Второе, ты в каком году родилась, девочка?
Пауза затягивалась, Маруся молчала, теребила в руках белый платочек. Учительница настаивала:
– Так в каком году ты родилась?
– В сорок девятом…
– Хорошо… А когда погиб, ты пишешь в сочинении, твой отец?
Ещё более длительная пауза. Маруся поставила руку на стол, облокотилась на неё, почти отвернулась от учительницы. Огромная русая коса переползла со спины на грудь, коснулась коленей.
– В сорок четвёртом году, зимой, на Карельском фронте… – прошептала девочка.
– Ты понимаешь, что произошла ошибка?! В твоих мозгах произошла ошибка… Неужели ты не понимаешь, что погибший воин не может быть твоим отцом?!
Плечи Маруси задрожали, маленький платочек не закрывал глаз, слёзы стали капать на учительский стол. Варвара Семёновна, проработавшая в школе 25 лет, всякое видела. Но этот случай – уникальный: девочка всё понимает, но упорно считает, что её отец погиб на войне. Хотя посёлок знал, что мама Маруси родила дочку, работая в геофизической партии. Она после гибели мужа на войне устроилась разнорабочей в экспедицию: одной прокормить двоих детей было нелегко…
– Ну, полно, Маруся, не плачь, – утешала учительница, гладя девочку по голове, – я всё понимаю… Давай так договоримся: я верну тебе тетрадь, и мы забудем об этом инциденте. Но и ты нигде и никогда больше не говори такого… Это смешно, в конце-то концов!
– Смешно? – вдруг сказала девочка. Учительница едва услышала это слово, вернее поняла по губам, что та произнесла, подняв голову, – что тут смешного? Как моя фамилия? Керимова… Зовут, как? Мявтюха… Мявтюха Анваровна Керимова. А как папу моего зовут? Анвар Керимович! Что тут смешного? Он – мой отец. Когда бы я ни родилась! Слышите?! Слышите… Слы-ши-те… – слёзы задушили девочку.
Дверь в учительскую открылась, на пороге стоял Анвар, старший брат. Он поздоровался с Варварой Семёновной, извинился за вторжение, сказал:
– Меня ученики послали сюда… Простите ещё раз. Мама просила забежать в школу, передать деньги за обеды. На целую неделю. Ты забыла, Маруся.
Анвар осёкся, увидев слёзы сестры, замолчал. Прошла минута, прежде, чем он спросил:
– Что-то случилось, Варвара Семёновна?
– Нет, Анвар, ничего у нас не случилось… Вот вместе прочитали сочинение Маруси о том, как погиб ваш отец… И обе разревелись.
Девочка подошла к брату, обняла, сказала:
– Брат старший, тоже Анвар.
Варвара Семёновна вздохнула:
– Беги, Анвар, на работу опоздаешь. В твоей бригаде половина выпускного класса трудится? Передай привет нашим…
10 – А годы бегут…
В рабочем посёлке много мужчин вернулось тогда, в 45-м, комбинат задышал ровнее, началась его реконструкция. Леонида Стулова, захватившего из-за возраста лишь два года войны, вдруг стали называть по имени отчеству, он вышел в бригадиры ремонтников, поступил в вечерний техникум, женился на Анне, ткачихе, высокой, стройной девушке, круглой сироте, приехавшей из Белоруссии. Но, наверное, с год шутили над ним парни, пока первая дочка, Галинка, не родилась, подкалывали: "Чтой-то ты на целую голову выше себя жёнушку выбрал? Не бьёт она тебя, ненароком?" "А это – не я, она меня выбрала", – отшучивался бригадир.
Тогда много учениц-подростков приехало в посёлок из разрушенной и раздавленной войной Белоруссии, скромные девчата, и профком комбината никому не отказал в приёме, когда места в общежитии закончились, попросил работниц разместить их по домам, кто сколько сможет. Семья Леонида, после его переселения с Аней в отдельную комнату общежития со всеми удобствами, взяла четверых девочек – беженок. Так многие работницы цехов поступили, согревали их домашним уютом: учениц кормили два раза в день на производстве, ужинать они садились, как правило, вместе с семьями. А потом начинали петь грустные и тягучие песни на родном языке: вспоминали погибших от рук фашистов близких, порушенные деревни и города, часто плакали.
"Война всех достала, – думал часто Леонид, – надо побольше праздников устраивать, всем вместе кучковаться, той же бригадой". Подружились семьями, собирались по воскресеньям в обед, по очереди накрывали стол, составленный из нескольких маленьких столов, на вино и закуски почти не тратились: всё своё да наливочка домашняя. За хозяйкой очередного застолья был борщ и варёная картошечка с селёдкой, на что уходило по рублю с семьи. Пели, плясали, играли в фанты, мужики – на любителя: домино, шашки, на худой конец, подкидной дурак. За детьми приглядывали две нянечки комбинатовских яслей и сада – жёны рабочих бригады. Иногда кто-то из мужчин вдруг перебирал, но жена была начеку, паре выделялся сопровождающий, который помогал уложить главу семейства спать, чтобы не было никакого скандала. Утром – "герой" получал втык от бригадира при полном отсутствии сочувствия товарищей. О женском пьянстве – вообще не было речи: не до того, только за пять послевоенных лет пришлось строить дополнительно два детских комбината, рождаемость увеличилась в два с лишним раза.
У Стуловых почти погодками росли сразу три девочки: Галина, Олеся и Стелла, названная в честь героини любимой у жены оперетты. Последним, к счастью главы семейства, родился мальчик, он-то как раз и венчал похороны отца народов, но назвали его в честь деда и настоящего отца – тоже Леонидом. Профком выделил семье квартиру в новостройке, дали им трёхкомнатную, в блочно-бетонном, так называемом, сталинском доме, с кухней и газовой плитой, паровым отоплением и двухметровой чугунной ванной. Старые родители из древнего шлакозасыпного дома, где печи топились дровами или торфом, с чего, собственно, и начинался посёлок, каждую субботу приезжали на помывку к детям и внукам. Нередко они брали с собой уже подростков, двоих сыновей старшего брата Леонида, не вернувшегося с войны. Укороченная ради предстоящего выходного дня неделя заканчивалась в семье бригадира домашним чаепитием.
***
Молодёжная газета публиковала очерки о фронтовиках, награждённых орденом Славы любой из трёх степеней. Дядю Лёню Стулова я встречал в посёлке, где жили и мои родители, слышал, что он имел такую же награду, даже чуть ли не два ордена – 2 и 3 степеней. Работал я тогда в той самой газете и напросился сделать зарисовку о старом знакомом. Но для начала вот что хотелось бы сказать про войну и день Победы: до 1965 года в стране не праздновали победу, на предприятиях был обычный рабочий день. Да и фронтовики не любили надевать на грудь свои награды и даже вспоминать о войне.
В сталинской квартире с семьёй сына стала жить его мама: отец, израненный на войне, протянул меньше десяти лет. Старшая дочь – Галина, училась уже в институте на инженера-технолога, две других – заканчивали школу. Леонид-младший фактически жил на два дома: сначала – дворец спорта (перворазрядник по спортивной гимнастике), а потом уже семья и школа. Но учился прилично, даже без троек. Дядю Лёню после защиты диплома в техникуме перевели в экспериментальную мастерскую, где впятером, кроме него все с высшим образованием, работали над бесчелночным ткацким станком. Главный инженер шутил: "Решите задачку – можно претендовать на Госпремию!" (а это – пятьдесят тысяч рублей, деньги сумасшедшие по тем временам).
Орден Славы 3 степени (один он был у него) фронтовик показал, хотя надевать на грудь не стал, как и орден Красной звезды, несколько медалей, начиная – "За отвагу" и кончая – "За взятие Берлина", которую он получил в пути, при следовании эшелона на Дальний Восток, чтобы окончательно разобраться с японцами. Не доехал их полк, капитулировали япошки, гульнули солдатики на радостях и поехали обратно. Первым делом Леонид по возвращении сходил на местное кладбище, там были сотни могил воинов, скончавшихся в тыловых госпиталях, постоял у памятника, гипсового, аляповатого и дал себе слово: собрать фронтовиков и обустроить захоронение, "чтобы спалось браткам вечным сном по-людски". Долго пришлось тем ждать: то комбинат поднимали, то женился, то учился, только-только к 20-летию Победы, обретя уже и авторитет, и имя знатного рабочего, ему удалось собрать бригаду, сразу после зимы и взялись за дело, но к майским праздникам не успели. Пришлось открытие памятника перенести на осень. Зато школьников на торжестве было несколько тысяч, как раз к началу учебного года успели.
Слушал я рассказы дяди Лёни, не перебивая, думал, наверное, всё же "вырулит" на подвиг: орден Славы просто так не давали. Но он молчал об этом, как рыба на берегу. Спросил тогда в лоб:
– Так за что орден Славы-то дали?
– За трусость, – смотрит на меня и грустно улыбается, – ну, скорее, за осторожность и осмотрительность. Тащили двух "языков", старшина – командир разведки, сказал: "Чтобы не сплоховать, обойдите с "гостем" минное поле, за речкой встретимся…" И дал мне ещё помощника, а сами со вторым "языком" пошли коротким путём, где и полегли все: немцы, скорее всего, ждали их, накрыли ураганным огнём. Тем ребятам дали по ордену посмертно, а мне, вот, значит, живому досталась награда… – фронтовик молчал, сморкался в платок, да так, будто всхлипывал, – такие ребятки полегли, эх ты, боже ж мой… Вот поэтому я и не люблю про эту награду рассказывать. И ты не пиши в газету, неудобно мне будет, со стыда сгорю. Вон сколько на комбинате фронтовиков, напиши про них. А ко мне приходи, когда я на пенсию уйду, вот тогда и поговорим…
***
Тот же сталинский дом, но кажется маленьким, усох что ли за шестьдесят лет. Дяде Лёня давно на пенсии, а страна собирается отметить очередной юбилей Победы. Пришёл я к ветерану без приглашения, не надеясь, что он вспомнит меня, того, кто, по его просьбе, не стал печатать заметку в газете. Дверь открыла строгого вида женщина с седыми, ровно уложенными волосами, туго затянутыми в узел. Я представился, сказал, что их земляк, приехал на родину, узнав, что ветеран жив-здоров, решил заглянуть на минутку, поздравить его с великим праздником.
– Болеет, долго лежал в больнице, инсульт перенёс, – сказала строгая женщина.
– А вас, по-моему, Галиной зовут? Я приходил к вашему отцу, правда, давно это было, хотел о нём в газете написать, но он попросил не делать этого…
– Галина Леонидовна меня зовут, профессор технологического университета. Простите, вас не помню, но что-то похожее папа рассказывал про газету… Да, очень давно это было.
– Тогда-то мы и договорились: я приду ещё раз, когда он выйдет на пенсию… Не получилось сразу. Рад, что застал его в здравии.
– Проходите… – женщину что-то смущало, наконец, она сказала, – районный муниципалитет ждём, обещали приехать, поздравить папу. В любом случае, мы рады вам, не часто приходят люди из его молодости, хотя он многих не узнаёт, но понимает, что это близкие и родные люди.
Ветеран сидел в глубоком кресле, палка прислонена к подлокотнику, на коричневом пиджаке в рубчик ярко выделялись награды. Впервые увидел все его ордена и медали: вот справа почти на лацкане – орден Красной звезды, слева – орден Славы, потом медаль "За отвагу" и ещё не меньше десятка боевых и юбилейных медалей. Глаза блёклые, но с интересом рассматривают гостя, даже улыбаются, наконец, он говорит:
– А я вот, значит, приболел… Не могу стоя встретить вас.
– Папа, это сосед наш из далёкой твоей молодости… – громко сказала дочь, – помнишь, он хотел написать про тебя заметку в газету, а ты отговорил?
– А где же начальство? Давно обещали приехать… – глаза его потухли, голова отклонилась вправо, руки свалились с колен.
– Вот в чём опасность ситуации, – сказала Галина Леонидовна, – он устал ждать… А нам, наверное, не надо было говорить ему о приезде начальства.
Хотел, не прощаясь, по-тихому уйти, но раздался звонок, неприкрытая входная дверь распахнулась, грубоватый с хрипотцой женский голос наполнил коридор и всю квартиру:
– Так, а где наш герой?! А подать нам сюда Леонид Леонидыча!
В большую комнату ввалились человек пять, в плащах, в сапогах, с какими-то авоськами и пакетами в руках. Ветеран довольно равнодушно посмотрел на них, чуть-чуть приподнял подбородок.
– Дорогой и глубокоуважаемый ветеран… – стала читать с листа, зажатого в левой руке, поставленным голосом женщина, незаметно щёлкая пальцами правой, опущенной вниз, руки, – по поручению правительства страны, от имени районного муниципалитета и совета ветеранов войны разрешите поздравить вас с наступающим юбилеем, всенародным праздником – шестидесятилетием Победы в Великой Отечественной войне! – в это время клерк вложил ей в растопыренные пальцы увесистый пакет с эмблемой дня победы. Женщина передохнула, даже слегка откашлялась, продолжила, – на ваших героических подвигах выросло ни одно поколение молодёжи. Мы помним и чтим ваши заслуги! Пусть никогда не погаснет огонь мира и покоя, который вы завоевали в тяжких боях. Пусть он вечно горит на могилах неизвестного солдата. Подвиг ваш бессмертен, память о вас – вечна!
Она неловко обняла ветерана, пытаясь поцеловать его в щёку, тот не сопротивлялся, но никак не мог поднять голову из угла кресла. Дочь не выдержала, сказала:
– Вы не спешите, сейчас мы с папой встанем… А вы пока раздевайтесь, у нас стол накрыт, посидим, чайку попьём…
– Нет-нет, что вы! У нас в районе есть ещё неохваченные ветераны, ну, не ходячие, стало быть, надо всех охватить, передать подарки и т.п., и т.д. Поэтому: будем заканчивать с ветераном Стуловым… Вот вам праздничный пакет, тут всё самое необходимое из продуктового набора, вплоть до подсолнечного масла и гречки. И с пожеланием здоровья на долгие года – будем прощаться. Ветерану Стулову! Наше громкое: гип-гип Ура! Ура! Ура-а-а!!
Прокричав здравицу, они так же быстро, как и появились, ушли. Леонид Леонидович дремал, его не подняли, не раскачали ни лозунги, ни крики. Я спросил у дочери:
– Кто это приходил и что это было?
– Руководитель районного муниципалитета и сотрудники. Папа сдал, конечно, инсульт, а так-то он сам ездил в совет ветеранов, присутствовал на собраниях и концертах худсамодеятельности…
Кто-то из молодых родственников дяди Лёни стал вынимать из праздничного пакета продукты первой необходимости, улыбался, видимо, не подозревая даже, что и ветераны нуждаются в еде. Я взял плащ, вышел на лестничную площадку: так жалко было и отцов – ветеранов, и своих друзей – детей войны. Как бегут годы и как безжалостно время…
11 – Майскими короткими ночами…
Записки о майских днях, проведённых в Западной Германии, пролежали в столе сорок лет. Хотя меня всё время мучил вопрос: а было ли тогда в сознании немецкого населения понятие, что их страна проиграла войну? Ведь за это время выросло почти два поколения, которые познали не только послевоенную разруху, но и комфорт последующей жизни, намного превышавший нашу социалистическую действительность. Как они воспринимали нашу Победу? Как майскими короткими ночами им спалось? И кого они видели в советских журналистах – ровесниках Победы над фашизмом, посетивших их страну, павшую к ногам победителей?
***
Всё откладывал работу с блокнотами, думал, обойдусь без воспоминаний, без майских соловьёв в редких рощах на Рейне, без красивой горничной Лизы, которая положила на столик церковной гостиницы на окраине тихого провинциального Бонна, тогдашней столицы ФРГ, фолиант аскетично изданной Библии на русском языке… Нет, память не отпускает: кислое немецкое вино шумит в голове, гастштетты будоражат хмельными разговорами с нацистами и неонацистами, откровенными фашистами и простыми немцами, аккуратными бюргерами, поющими застольные песни и опустошающими литровые кружки знаменитого пива…