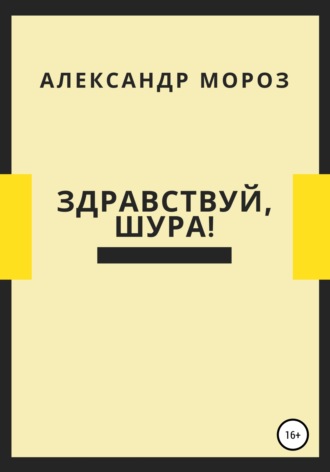 полная версия
полная версияЗдравствуй, Шура!
Приходилось изощряться, находить самим объекты экскурсий и способы их осуществления. Иначе говоря, обманывать своих доверчивых родителей. Вот как я, например, обманывал свою мамочку.
Сговорившись накануне с товарищами, я утром, собираясь в школу, брал самую тощую книжицу и, сунув ее под ремень, мчался к месту сбора. Чаще всего собирались около павильона. Шли по шоссе мимо пороховых складов, потом немного по узкоколейке и, когда уже начинали вырисовываться дома небольшого городка Гробина, мы сворачивали с узкоколейки и кратчайшим путем подходили к городу.
Гробин – это уездный город в 11 километрах от Либавы. В административном отношении Либава с ее почти 100-тысячным населением подчинялась Гробину, хотя и по территории, и по числу жителей Гробин был лишь небольшой частью Либавы. К тому же, Либава был портовый город, и функции уездного города ему были ни к чему.
Сам городок Гробин был настолько мал, что его можно было исходить вдоль и поперек. Да нас интересовал не сам Гробин, а замок ливонских рыцарей XIII века, стоявший вблизи города. На стенах развалин росли деревья. В стенах были замурованные ниши – в них, по преданию, замурованы живыми жертвы феодалов. Наше юное воображение рисовало нам картины жестокого прошлого. Оттуда шли хоть и уставшие, но довольные своим нелегальным путешествием.
Не всегда мы укладывались в часы занятий в школе и приходили домой позже обычного. Мать замечала утомленный вид, спрашивала, почему поздно пришел. «Были у Кашина, ходили к нему домой, и он нас, отстающих, готовил у себя дома», – врал я матери. Кашин – это учитель русского языка, который не только не собирал у себя дома отстающих, но даже и не помышлял об этом. Но наивная моя мама верила этому моему вранью и не пыталась добиться истины – родительских собраний тогда не устраивали. Правда, такие вылазки, которые мы называли «идем вандаровать», вместо того чтобы идти в школу, были не так часты, но воспоминание о них осталось самое благоприятное.
Одно время ходил я в Воскресную школу. Это была какая-то организация христианского толка. Там давали какие-то дешевые книжечки, но они мне не понравились, и я прекратил хождение туда.
Запомнились мне торжества по поводу 300-летия дома Романовых в 1913 году. На площади за железнодорожным мостом было много народа, войсковой парад, оркестры. Я получил книжечку «Краткая история дома Романовых» с иллюстрациями.
Школа не баловала своих питомцев культурными мероприятиями. Кроме ежегодных «моевок» с выездом в лес за 20 километров на станции Гавезен, запомнилась мне экскурсия на проволочный завод в Либаве. Мы с большим интересом смотрели, как змеей извивались длинные раскаленные полосы железа, как их клещами подхватывали рабочие, засовывали в отверстия меньшего диаметра, и, в конце концов, получалась проволока. Были и в других цехах. Экскурсия эта запомнилась мне на всю жизнь. Уже позже, когда я стал интересоваться живописью, мне показалась репродукция картины художника Павла Александровича Брюллова (однофамильца знаменитого Карла Брюллова) «На Либавском проволочном заводе». Она мне напомнила лишний раз об одной из редких экскурсий, организованных школой.
Были еще посещения кино, но в этом роль школы сводилась к выдаче разрешений на просмотр какой-нибудь «Соньки – золотой ручки» и тому подобных картин. С удовольствием мы смотрели картины с участием комиков Макса Линдера и «Глупышкина» (прим. – Андре Дид, французский комик, в России ему дали прозвище «Глупышкин»).
Еженедельно мы были обязаны посещать церковь, расположенную на втором этаже Либавского вокзала. Собирались у школы и парами шли в церковь, чтобы покорно выстоять тягучую обедню. Но это было занятие скучное, и задача была лишь в том, как суметь отпроситься «выйти по надобности». Учитель обычно назначал срок возвращения, но «молящиеся» не спешили, и почти половина их слонялась на площади и на вокзале, стараясь не попасть на глаза другому учителю, рыскавшему около вокзала.
Запомнился случай, когда гроб с телом священника Александра Македонского (он был тезкой великого полководца) стоял посреди церкви, и ученики не просились выйти, а вели себя пристойно. Священник этот преподавал у нас Закон Божий. Умер он молодым, кажется, от рака. Ученики его уважали.
Одну увлекательную поездку я запомнил на всю жизнь. Не помню точно, в каком году по России прокатилась мода на «потешных» (прим. – в январе 1908 года император Николай II ввел в народных школах обучение военному строю и гимнастике в целях физического развития молодежи. Вскоре движение «потешных» охватило всю страну). Все школы Либаво-Роменской железной дороги от Либавы до Ромен стали готовиться к сбору «потешных» в Минске. Нас усиленно обучали сокольской гимнастике (прим. – гимнастика с предметами, упражнениями на снарядах, массовые упражнения и построение пирамид), маршировке. Подбирали по здоровью, по успеваемости, по поведению, и, хотя я всем этим требованиям удовлетворял лишь приблизительно, меня наметили для поездки в Минск.
И вот, в один прекрасный день мы, «потешные» Либавской школы, выстроились на площади у вокзала. Около каждого – чемодан с бельем и прочим, в руках – деревянное ружье с металлическим штыком, все в форменных фуражках. Около нас суетятся родители. Мамы дают наставления, папы дополняют. Для большинства из нас предстоящая поездка – первая самостоятельная дорога на расстояние в полтысячи километров. Сопровождающие нас учителя не в счет, как-никак это не мамы и папы. Около меня мои родные. Мать, да и не она одна, смахивает невольную слезу: как же чадо едет одно. Рядом со мной мой друг Густав Маткевич, его провожает мама.
В пассажирском поезде нам выделяют классный вагон третьего класса, и мы размещаемся. Выходят родители из вагона, мы повисаем на окнах, три звонка и прощай, Либава! Миновали знакомую по маевкам станцию Гавезен и дальше ехали уже по незнакомой дороге. Оказалось, что лес за Гавезеном заканчивался, а я, например, считал его чуть ли не бесконечным. И уже станция Прекульн (прим. – Приекуле – латышская железнодорожная станция) в 40 километрах от Либавы располагалась в безлесой местности. Прибыли на станцию Муравьево, отсюда идет железнодорожная линия на Митаву (прим. – старинное название города Елгава в Латвии). Потом Шавли, Радзивилишки, Кейданы (прим. – город Кедайняй в Литве), Кошедары (прим. – до 1917 года Кошедары, потом город Кайеиядорис в Литве) и Вильно (прим. – город Вильнюс, столица Литвы). Между Вильно и Минском станция Сморгонь со своими знаменитыми сморгонскими баранками.
И вот, наконец, Минск. Нас отвели на Минск-товарный и разместили в товарных вагонах с трафаретной надписью «40 человек и 8 лошадей». Из досок настлали нары в два этажа, принесли соломы. Простыни мы достали из своих чемоданов. Разместились человек по 5–6 на этаже, то есть немного вольготней, чем предписывалось вагонным трафаретом, и, конечно, без лошадей. Вагонов было с полсотни, и в них разместились все приехавшие школьники – «потешные» со всей Либаво-Роменской железной дороги. Помню, посмеивались мы с Роменских и Бахмачских хохлов. Они как-то выделялись среди всех: говорили с украинским акцентом, почти все были неуклюжие, упитанные, расхаживали неторопливо.
Состав наш стоял в тупике вблизи настоящих солдатских казарм. Солдат не было, и все хозяйство казарм было отдано в распоряжение нас, «потешных». Стояли в карауле у знамен – каждая школа имела свое знамя. У входа в расположение казарм стояли часовые. Провинившихся посылали на кухню чистить картошку. Повара были настоящие взрослые военные. Порции нам давали как всамделишным солдатам: борщ, каша, хлеб по потребности. Конечно, осилить такой рацион своими ребячьими аппетитами мы не могли и дали волю баловству. Получали тарелку борща и в нем большой кусок мяса, который мы не съедали, и во время обеда эти куски летали над головами. Дружно хохотали, когда кусок попадал кому-нибудь в затылок или лицо. Несчастная жертва ругалась, размазывая по лицу текущий жир, и это еще больше веселило молодых солдатиков. Обед походил больше на веселую кинокомедию и ничуть не был похож на мирную трапезу, о которой учил нас священник на уроке Закона Божьего. Правда, под конец лагерной жизни руководители навели кое-какой порядок, но в основном обедали не только весело, но и с напряжением – нужно было зорко следить и вовремя уклониться от летящей мокрой порции мяса.
Спал я рядом с Густавом Маткевичем. В одну из ночей у Густава расстроился желудок, но бедняга спал настолько крепко, что проснулся уже тогда, когда запах, исходивший от его кальсон, разбудил не только его, но и нас, спящих рядом с ним. Долго Густав ходил сам не свой – было стыдно. Да и мы еле сдерживались от смеха, глядя на него, а он дулся. Да, всякое бывает в жизни! Но время все стирает, и постепенно наши издевательства и насмешки над Густавом прекратились, и хлопец обрел покой.
Ежедневно мы занимались сокольской гимнастикой, военным делом, завтракали, обедали и ужинали. Перед вагоном на земле выкладывали из камушек и кирпичей вензеля, приветственные лозунги и всячески украшали всю территорию, отведенную нам. Готовились к приезду из Петербурга представителей от Царя, которые в один прекрасный день должны были принять парад всего нашего «потешного войска». И вот, этот день настал. Узнали, что делать смотр будут подполковник (или полковник) Назимов и штаб-капитан Пуржанский. Нас построили пошкольно, и мы начали демонстрировать свое искусство в гимнастике и военном деле. Начальство проходило мимо нас, мимо наших украшений у вагонов, замечали лучших исполнителей. После окончания смотра вручили подарки наиболее отличившимся. Подарки были ценные, как, например, карманные часы, что по тем временам не всем учащимся было доступно. Не помню, чем прославилась наша школа, и кто получил подарки. По-видимому, ничем мы не прославились.
Но один прискорбный случай запомнился. Ученик по фамилии не то Жилинский, не то Жуковский в общей уборной уронил часы, подаренные ему. Мы толпились, заглядывали в очко, давали разные советы. Удрученный парень – он был рослый, выделявшийся среди нас своей солидностью, стоял, не зная, что предпринять. Штука обидная! Кажется, часы все же достали.
После смотра мы разъехались по своим домам. Эта игра в «потешных» нам всем понравилась: она расширила наш кругозор, познакомила нас с товарищами из других школ, с новыми местами.
Передо мной лежит один любопытный документ – письмо Городнянского Сиротского судьи от 26 июня 1913 года, адресованное моей матери Мороз Ф.Ф., по второму мужу Гавриловой. В нем пишется, что в ответ на прошение Сиротский суд извещает, что для получения денег на воспитание сироты Мороза Александра необходимо возбудить в суде ходатайство совместно с опекуном Данченко С.Ф., без него не будут выданы деньги и утверждено право малолетнего на наследство.
Значит, и в 1913 году тянулось дело о моих сиротских делах, и мать ездила из Либавы в Городню, а может даже и со мной. Как-то смутно помнится мне посещение дома опекуна Данченко и сам он.
Теперь, когда я записываю все это, меня возмущает мое безразличие в этом деле, ведь обо всем я мог подробно расспросить мать.
Примерно в этом 1913 году приезжал в Либаву мой дядя по отцовской линии Вилентий Мороз. Был он носильщиком в Минске и хвастался своими хорошими заработками. Ходили мы с ним по городу, и он все жужжал мне о «пропитом» доме, о присужденных мне деньгах за смерть отца, всячески настраивал меня против матери. Я просто возненавидел его за это, и когда он совал какие-то серебряные монетки, я не хотел их брать. Все блага жизни у него основывались на деньгах, на стяжательстве. Принимала его мать натянуто, без особого энтузиазма, но походить с ним по городу меня отпустила. Был он у нас недолго. Уже гораздо позже, будучи взрослым, я слышал, что дядя Вилентий не избежал тюрьмы за какие-то спекулятивные делишки.
Однажды появилась у нас какая-то родственница по линии бабушки Гавриловой из семейства Кайзер. Это была пышная, рослая, белозубая девушка-блондинка с румянцем во всю щеку. Мне она показалась красавицей. Во всяком случае, мое мальчишеское мнение о нашей соседке Яде Яковлевой как о самой красивой девушке резко изменилось не в пользу Яди. Образ Яди сразу как-то померк, и мое тайное преклонение перед ней рассеялось, как дым, и свои симпатии я перенес на этот новый объект преклонения. Не помню, как звали эту приезжую фею, она вскоре уехала в Минск, но Ядя уже не казалась мне таким совершенством, каким была до приезда этой невольной соперницы.
В 1913–1914 учебном году, в четвертом отделении, я учился в основном без двоек. Но зато по русскому устному языку на экзамене заработал двойку, и была назначена переэкзаменовка на осень – единственная за все годы учебы. По остальным предметам экзамены прошли успешно, с одной тройкой по геометрии. И впервые за все время учебы я получил четверку по поведению за нарушение дисциплины в третьей четверти, как записано в сведениях об успехах. А вот в чем выражалось это нарушение дисциплины – я припомнить не могу. В этом учебном году я имел рекордное число пропущенных уроков, т. е. 25, в то время как за предыдущие три года их было только 29. В этом отделении появился ручной труд – учили столярному делу. Я столярничал на тройку. По рисованию по-прежнему выше тройки не получал. Появились новые предметы: физика и геометрия с ее «пифагоровыми штанами». Эти «штаны» мне запомнились надолго и вот, почему.
Преподаватель геометрии Якубовский Александр Александрович был высокий худой мужчина, нервный до крайности. Судя по его внешности, он был болен туберкулезом. И вот, этот мой тезка вызывает меня и спрашивает, что я знаю о теории Пифагора. Я же об этой теореме знал только то, что ее в насмешку называют «пифагоровыми штанами», но не более того. Я встал, молчу. Видимо, крайний предел тупости являла моя рожа, и учитель не вытерпел и вкатил мне оплеуху. От боли, стыда и обиды я заплакал, а он как будто смутился, но дело это особой огласки не получило. Вообще же на его уроках ученики вели себя тихо – боялись его вспыльчивого характера. Как ни странно, но я даже после полученной оплеухи не питал неприязни к этому больному человеку.
И, поскольку я вспомнил об одном из учителей, я не могу не вспомнить и не описать то, что сохранилось в памяти о других учителях нашей школы.
Старший учитель Лупинович Я., который расписывался в документах за попечителя школы, был коренастый пожилой мужчина. Его мы побаивались. Кто был попечителем школы – я не знаю.
Учитель Кашин Н., именем которого я спекулировал, обманывал свою мать, втирая ей очки, что я, якобы, оставался у него на дополнительные уроки, был неплохой человек. Конечно же, я ни разу ни на какие дополнительные уроки не оставался, да и Кашину вряд ли был интерес водиться с нами после уроков.
Были учительницы: Цветкова Н., Дружиловская И., учитель Корзун, но я их как-то не запомнил. Они ничем особым не выделялись. Смутно рисуется образ математика Горбацевича В. Этакий типичный белорус, плотный мужчина. И разговор, похожий на разговор моей тетки Лизы Лукашевич, родной сестры моего погибшего отца.
Законоучитель отец Павел Апсит запомнился благодаря своему чрезмерному чреву при низком росте. На уроках этот добродушный толстяк не скупился на отметки.
Высокий, худой учитель Струковский М., который появился в школе незадолго до начала войны 1914 года, был настолько беспомощен и мало авторитетен, что его было просто жаль. Ему сразу же присвоили кличку «Зеленый». Даже я, будучи учеником тихим и трусливым, позволял себе в обращении с ним шалости не совсем невинного свойства. Между прочим, моя единственная «четверка» за все годы учебы по поведению подписана была в сведениях за третью четверть за 1913–1914 годы вот этим самым учителем Струковским. Видно, чем-то допек его и я, а что делали сорванцы?
Учитель географии, Бакит, толстяк низенького роста, был из немцев. С русским языком у него были нелады, и слушая его разговор, нельзя было не улыбнуться. Так, например, слово география в его произношении звучало как «гоограпия», а обороты речи и построение фраз далеко не всегда соответствовали правилам грамматики. Досужие ученички, подражая оборотам речи, характерным для этого учителя, придумали такой афоризм, который все знали наизусть: «Человэк, который не знает гоограпия, называется нэ человек, он идет, идет – сам не знай куда идет». Однажды, кто-то из смельчаков, вызванный к доске Бакитом отвечать урок, процитировал полностью этот доморощенный афоризм, и вызвав дружный смех, был выставлен учителем за дверь.
Перспектива очутиться за дверью во время урока мало кому приходилась по душе. Старший учитель Лупинович имел дурную привычку проходить по коридорам обоих этажей во время уроков. Он останавливался около наказанного и дотошно допытывался о причине, вызвавшей удаление из класса. Часто запутавшийся ученик что-то мямлил или лепетал какую-то неправду, и в результате получал по поведению сниженный балл или записку о вызове родителей.
Баловались подходяще, особенно на переменах. Раз, помню, два этаких петушка-ученика в чем-то не сошлись мнениями и стали тузить друг друга. Потом покатились по земле, у одного с носа закапала кровь. Я испугался вида крови и побежал за учителем. Учитель вполне хладнокровно выслушал меня, но к дерущимся не подошел. Я недоумевал: меня удивило безразличие учителя. Дерущихся разогнала учительница.
Из старого здания школы мы уже переселились в новое на Александровской улице. Новое здание было обширнее старого, с большим двором с приспособлениями для занятий гимнастикой. И гораздо ближе к нашей квартире.
Все чаще мы ходили в кино, там пичкали зрителей разным детективным хламом. Кто-то удирал, кого-то догоняли, стреляли (хлопали из пугача за полотном – кино-то было немое), гремел гром (за полотном его воспроизводили листом железа). Сеанс сопровождался игрой на пианино. И вот, однажды, нас обрадовали боевиком. Какой-то бандит в маске, в накинутом на голову пиджаке с вытянутой вперед правой рукой шел на какого-то врага. Видел этот фильм и ученик нашего класса Чачин Саша. На большой перемене он решил продемонстрировать действия бандита. Снял пиджак, накинул его на голову и, выставив вперед правую руку, пошел на врага. Его выступление еще более смешило от того, что у него одна нога была короче другой, и его ковыляющая фигура с накрытой головой и протянутой рукой была гораздо эффектнее, чем у бандита в кино. Мы дружно гоготали, расступаясь перед прыгающим Сашей. Он же, накрывшись пиджаком, вслепую шел на невидимого врага, пока не послышался звон большого разбитого стекла. Сашина рука, защищенная пиджаком, не пострадала, но отметка по поведению пошла вниз, да и родителям пришлось раскошелиться на стекло.
Интересно сложилась судьба Чачина Александра Федоровича. После революции он был председателем Дорпрофсожа (прим. – Дорожный профсоюз работников железнодорожного транспорта) Управления Белорусской железной дороги в Гомеле. Раз, едучи из Гомеля в Щорс (Сновск), я напомнил ему об учебе в Либавской железнодорожной школе, о выбитом им стекле, но он вел себя высокомерно, чувствовалось, что высокий пост в Дорпрофсоже вскружил ему голову, и названное Лениным «комчванство» мешало ему спуститься с высоты своего служебного поста и по-товарищески поговорить и вспомнить об учебе в «академии».
Были и еще встречи с ним, и всегда чувствовалось, что возобновлять знакомство со мной, каким-то беспартийным бухгалтером, у него не было ни малейшего желания. Слишком мелкой фигурой я был для него. А может быть, он боялся, как бы я на правах старого школьного товарища не начал бы добиваться у него, как у власть имущего, каких-либо привилегий для себя. Кто его знает!
Вообще же, отдать ему справедливость, на собраниях он умел потешить слушателей веселой шуткой, вызывающей дружный смех, и речи его слушали с интересом. Был он заядлым болельщиком футбола: сидящие около него не столько смотрели на футболистов, сколько на Чачина, не сидевшего спокойно, а прыгающего и издающего какие-то нечеловеческие звуки.
Теперь, когда я вспоминаю школьных учителей и учеников, память моя уже не срабатывает, как нужно. Например, имена и отчества учителей забылись окончательно, да и фамилии я нашел в сохранившихся у меня документах.
Была у меня записная книжка «либавского периода жизни». К сожалению, она не сохранилась. Много чего там было записано по датам. Помню, на вопрос – кто ваш любимый писатель, я написал: «Гоголь». На вопрос – кто из поэтов любимый, я, конечно, написал про Пушкина, но тут я покривил душой, потому что к стихам его я был равнодушен и написал так, чтобы не обидеть Пушкина. А вот Гоголя я да, любил.
Был еще в книжечке записан каталог по минералогии. Я пристрастился собирать разные камни. Они у меня хранились в коробке из фанеры, обернутые ватой. На камнях были приклеены этикетки с названиями. Особенно интересовали камни-кругляки, содержавшие в середине своей окаменелые раковинки. Чтобы обнаружить такую раковину, нужно было разбить камень об рельс. Мы так увлеклись этим поиском, что путейские рабочие стали нас гонять.
Интересовался я нумизматикой. Была у меня порядочная коллекция старинных монет, большую часть которых я нашел на нашем огороде вблизи квартиры. Монеты Петровских времен выкапывал вместе с картофелем. Были и современные иностранные монеты. Помню, каким особенным почетом пользовалась у меня датская серебряная монета с изображением какого-то короля. По размеру она была с царский серебряный рубль. Были немецкие, английские, румынские с дырочкой посередине.
Собирал почтовые марки, но это было второстепенное увлечение, и порядочного филателиста из меня не получилось.
Незадолго до первой мировой войны, примерно в 1913-м или в начале 1914 года по «мудрому» распоряжению царского правительства началось разоружение Либавского военного порта. Ночами Либава освещалась заревом пожаров – горел уголь в порту. В своей неприкрытой наглости распорядители дошли до такого идиотизма, что распорядились сжечь то, что можно было увезти вглубь страны. Жители Либавы, наиболее жадные и смелые, днем и ночью везли с порта уголь и керосин, хотя официально это запрещалось и преследовалось. Прошел слух, что мальчик утонул в цистерне с керосином.
Вся эта вакханалия, освещенная пожарами, длилась более недели. Так неприкрыта была эта деятельность царского правительства, что не только нам, мальчишкам, но и самым отъявленным черносотенцам, верящим в «мудрость» царя и его клики, было ясно, что в этих действиях есть что-то преступное против России.
Когда добро в порту было сожжено и уничтожено, власти ненадолго успокоились, но атмосфера была тревожная. Газеты писали о результатах приезда в Петербург президента Франции Пуанкаре, о политических союзах и прочем.
Я по малолетству мало что понимал в политике, но вздохи старших и ожидание чего-то неприятного вселяли беспокойство в мою юную душу.
Мы жили около железнодорожного моста через канал. И вот, пошли слухи, что мост будут взрывать. Несколько ночей наша семья спасалась на путях в километре-полтора от дома. Всегда слух оказывался ложным, и мы возвращались домой. Однажды ночью все побежали «спасаться», в суматохе забыли меня, когда вернулись, я преспокойно спал. Вскоре перестали поддаваться панике, и беготня прекратилась. Мост стоял целый и невредимый. Кто и для чего сеял панику – неизвестно.
Кое-что о моем пристрастии к чтению я уже упоминал, постараюсь дополнить воспоминания на эту тему. Книгами я начал интересоваться с той поры, как научился читать. Все попадавшие мне деньги шли на книги. Как ни соблазнительны были копеечные булочки «жулики» и ириски – две на копейку, я предпочитал им покупку книг.
Много несъеденных завтраков ушло на приобретение выпусков Ната Пинкертона «Король сыщиков», Шерлока Холмса и других бульварных книжек. А в покупке 74-х выпусков «Пещеры Лейхтвейса» в какой-то доле участвовала и мать, любившая слушать чтение не только этого занимательного романа о смелом разбойнике Генрихе Антоне Лехтвейсе и его красавице жене Лоре, поменявшей аристократическую роскошь на опасную и полную лишений пещерную жизнь с разбойниками, но и другие подобные.
Покупал журналы, газеты, и мать, а иногда и отчим, живо интересовались событиями вроде дела Беймса в 1913 году, якобы убившего в 1911 году с ритуальной целью киевского мальчика Ющинского.
Помню, с каким наслаждением я читал и перечитывал роман Раскатова «Антон Кречет». Этот разбойник, обладавший большой физической силой и наделенный автором благородным характером, долгое время покорял мое воображение и служил образцом положительного героя.
А что плохого скажешь о таких великолепных журналах как художественный «Пробуждение» и юмористический «Новый Сатирикон» Аркадия Аверченко? В Аркадия Аверченко я был просто влюблен, и все его книжки в дешевом издании я имел.
Классиков тогда я не читал, кроме обязательного чтения их по программе. Правда, Н.В. Гоголя я почитывал и кроме школы.

