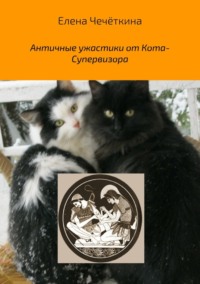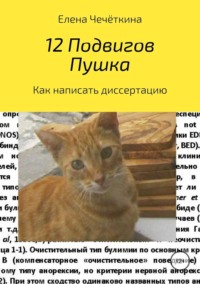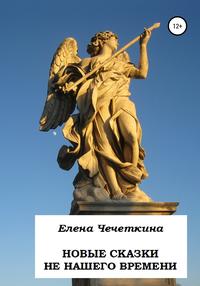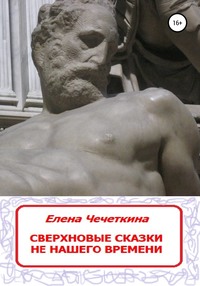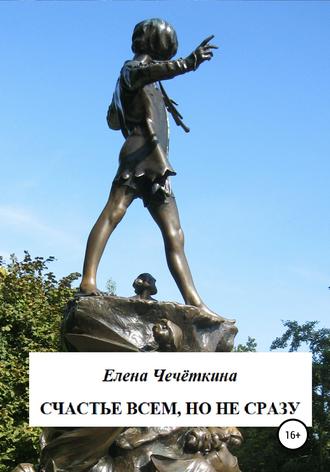 полная версия
полная версияСчастье всем, но не сразу: сверхпопулярная типология личности
Создается впечатление, что у него вообще нет внутреннего мира, как если бы он еще не родился. Создается впечатление, что его зачатие произошло с начала «постройки» шинели, рождение – когда Акакий Акакиевич шинель примерил, и она оказалась как раз впору! А когда шинель изъяли, он и помер… Кажется, именно с этим и связано мощное эмоциональное воздействие незначительной истории неприметного чиновника – его гибель воспринимается с той же горечью и гневом, как нелепая смерть маленького ребёнка: ведь он и не жил совсем!
А теперь от эмоций – к делу. Как диагностируется шизотипическое расстройство? В современной психиатрической диагностике, как в DSM (Американская Психиатрическая Ассоциация), так и в МБК-10 (российский аналог ICD-10, разработанной Всемирной Организацией Здравоохранения), идет счёт «по очкам»: претендент должен набрать определенное число пунктов из предложенного ряда. Например, в DSM-III-R требуется выполнение, по крайней мере, 5 пунктов из следующих 9:
1) идеи отношений (исключая бред отношения) [идеи отношения – ощущение, что происходящие вокруг человека события, имеют особое значение именно для него; бред отношения – интерпретация нейтральных или не относящихся к человеку замечаний других как отрицательных и направленных именно на него – ЕЧ];
2) чрезмерная социальная тревога, например, крайний дискомфорт в социальных ситуациях с участием незнакомых людей;
3) странные убеждения и мысли о сверхъестественном…;
4) необычайные перцептивные переживания, например, иллюзии…;
5) странное или эксцентричное поведение или внешность, например, неопрятность, необычные манеры, разговоры с самим собой;
6) нет близких друзей и товарищей (или только один), не считая ближайших родственников;
7) странная речь…, например, бедная, с отступлениями от темы, неясная или слишком абстрактная речь;
8) неадекватность или ограниченность эмоций…;
9) подозрительность или параноидальные идеи” [1, c.197].
Свою «пятёрку» Акакий Акакиевич набирает легко: пункты 2, 5, 6, 7, 8. Плюс “тотальный паттерн недостатка межличностных связей” [1]: действительно, он совершенно не общается сверх необходимого. Только «родившись» решился принять приглашение добряка-сослуживца отметить шинель в компании; только потеряв шинель, осмеливается обратиться к «значительному лицу». А обычный, до-шинельный день Акакия Акакиевича проходил строго по регламенту:
“Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни послал бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя… Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то бог пошлет переписывать завтра?
Вне этого переписыванья, казалось, ничего для него не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета… И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка…” [19].
Остальные симптомы, если захотите, найдете сами при перечитывании повести. Даже искать специально не надо: и так всё время будет попадаться «или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка».
Продиагностировать Акакия Акакиевича оказалось сравнительно нетрудно, не так ли? А как будете его лечить? На досуге советую почитать руководство [1, c.200–207], и тогда, быть может, вам станет ясно, почему большинство ответов психотерапевта на письма подобных личностей кончаются советом обратиться к специалисту. Только не обратится Акакий Акакиевич за лечением. Во-первых, помер, а во-вторых, он и сам уже более 150 лет психотерапевт, в некотором роде:
“И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой!»” [19].
3. Расщепление
А теперь поговорим о множественной личности (МЛ). В самом начале лекции это нарушение было введено под шапку «шизоидности». Правда, психотерапевты обычно не любят МЛ, и уж если рассматривают его, то как крайний вариант диссоциативного расстройства личности по Мак-Вильямс [3], то есть как примыкающего к истерическому континууму, но не к шизоидному. Значит, надо пояснить, почему у нас множественная личность оказалась рядом с шизотипическим расстройством.
Заметьте: все личностные типы, в том числе и функционирующие на уровне «расстройства», НЕ кажутся окружающим странными. Все – за исключением шизоидного. Действительно, параноидный тип вызывает гнев («Опять приписал мне чёрт знает что, да еще и сам в это поверил!»), зависимый – жалостливое раздражение («Прямо ребёнок какой-то: ничего не может без мамочки!»), обсессивно-компульсивыный – просто раздражение («Замучил своими правилами!») и т. д. Шизоидный тип приводит в замешательство и кажется странноватым (при том, что «внутри» шизоид еще более странный – только предпочитает не демонстрировать этого), человек с шизотипическим расстройством выглядит странным (как, скажем, Акакий Акакиевич – но себе он «странным» не кажется), шизофреник ощущается другими пугающе странным (народ предпочитает держаться подальше). Множественная личность, как Вы, возможно, уже знаете благодаря масс-медиа (или узна́ете в результате дальнейшего чтения) – фантастически странная. Но – парадокс! – носители множественной личности для посторонних странными вовсе не кажутся, ибо ведут себя и действуют они вполне адекватно обстановке. Изюминка в том, что действуют, согласно обстановке, разные личности, но все они заключены в одном теле.
Возникает вопрос, каким образом такое, мягко говоря, своеобразное поведение не бросается в глаза окружающим? Как может МЛ неприметно существовать среди населения годами и даже всю жизнь? Ответ прост: МЛ идеально камуфлируется, потому что категорически НЕ ДОВЕРЯЕТ миру. И это недоверие вполне оправданно, потому что МЛ, как правило, начинается с детского абъюза.
Abuse (англ.) – злоупотребление, оскорбление. Страшное оскорбление ребёнка, когда один из тех, кто должен заботиться и охранять его (родители, опекуны) нападает, предает и шантажирует (обычно сексульно, но бывает и несексуальный абъюз). Ребёнок не в состоянии понять и принять это. Обычный сценарий: ребёнок приписывает вину за случившееся себе (дети вообще склонны испытывать иррациональное чувство вины за смерть, болезни и проступки родителей). Однако жестокость абъюза вызывает и гнев ребёнка. Противоположные чувства разрывают сознание, и тогда, если у личности есть потенциал для диссоциации, эта диссоциация происходит с полным расщеплением – скажем, на «плохую» девочку, с которой папа имеет право делать это, и на «хорошую» девочку, с которой ничего плохого не происходит. Друг друга расщепившиеся личности «не знают», только отмечают «пропавшее» время, постепенно привыкая скрывать провалы во времени не только от окружающих, но и от себя.
Вот мы и снова заговорили о РЕБЁНКЕ. Вспомните-ка Акакия Акакиевича несколькими страницами раньше. Он вроде бы и не родился до «постройки» шинели. У Гоголя в начале повести есть потрясающий текст на этот счет – внимательно прочитайте сцену рождения и наименования. Ему, собственно, даже имени не дали. Какой-то дьявол подсовывал совершенно непотребные имена, пока мать, вздохнув, не решила – пусть и сын, как отец, будет Акакием. И сразу переход к 50-летнему чиновнику, который так и остался неназванным ребёнком: полувековой пробел во времени – совершенно без личностного роста.
У множественной личности ситуация противоположная. Если герой «Шинели» недо-рождённая личность (и одной-то нет!), то ребёнок, диссоциировавший до состояния МЛ, пере-рождённая личность. Приставка «пере» действует и в смысле «слишком много», и в смысле перемены, замены. Возможна ли обратная «замена», интеграция в исходную личность? Неизвестно. Самопроизвольно излечившиеся МЛ вряд ли пойдут добровольно делиться с врачами своими сохранившимися (?) воспоминаниями. А те немногие МЛ, которые наблюдаются, считаются очень трудными пациентами. Почему?
Когда ситуация абъюза заканчивается, «плохая» девочка может исчезнуть в недрах сознания, и теперь всё время принадлежит только «хорошей» – девочке, девушке, женщине. Но трещина остается, и если в жизни возникает новый стресс, личность имеет тенденцию снова «развалиться». И две составляющие – вовсе не предел. Звучит фантастически? Чтобы читатель не заподозрил мистификацию, привожу сухие критерии расстройства множественной личности по МКБ-10:
А. Существование двух или более различных личностей внутри индивида, но только одна присутствует в данное время.
Б. Каждая личность имеет собственную память, предпочтения и особенности поведения и временами (периодически) захватывает полный контроль над поведением индивида.
В. Имеется неспособность вспомнить важную для личности информацию, что по масштабам превосходит обычную забывчивость.
Г. Симптомы не обусловлены органическими психическими расстройствами (…) или расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ (…).”
Итак, странность множественной личности, как первый индикатор шизоидности. Второй индикатор – терминологический. Даю слово автору прекрасной книги о сущности шизофрении Роналду Лэнгу:
“Термин «шизоидный» применяется к индивидууму, цельность переживания которого расщеплена двойственным образом: во-первых, существует разрыв в его отношениях с миром, а во-вторых, существует раскол в его отношении к самому себе. Подобная личность не способна переживать самое себя «вместе с» остальными или «как у себя дома» в этом мире, а наоборот, этот индивидуум переживает самого себя в состоянии отчаянного одиночества и изоляции. Более того, он переживает самого себя не в качестве цельной личности, а скорее в виде раскола всевозможными образами: вероятно. как разум более или менее слабо связанный с телом, как два и более «Я» и тому подобное” [24, c.7].
Самый интригующий вариант «и того подобного» – множественная личность: крайний случай расщепления, когда субличности, пользуясь одним телом, даже не подозревают друг о друге. Как же это им удается?
4. Сказка как источник познания
Существует единственный способ понять множественную личность (да и любую другую Личность, по типу сильно отличающуюся от характерного для Вас типа/типов) – эмпатия. Иностранное слово, означающее, грубо говоря, умение «влезть в шкуру» другого, почувствовать чужую шкуру (и потроха) своими собственными. Эмпатия отличается от «симпатии» тем, что «шкура» может Вам и не нравиться, но Вы со-чувствуете её обладателю. Мак-Вильямс советует своему читателю (действующему или будущему психотерапевту):
“Я бы рекомендовала читателю, независимо от его теоретической ориентации, попытаться постигнуть феномен диссоциации, используя «чувственно близкий опыт» – проэмпатировать внутренним переживаниям человека, который чувствует и ведет себя так, как будто состоит из многих различающихся собственных «Я»” [3, c.421].
Совет хорош для клинициста, мимо которого ежедневно проходит множество «странных» людей, изначально настроенных на обсуждение своей специфики. А если Вы не профессионал, и окружающие Вас люди «нормальны» (или изо всех сил стараются казаться такими); тогда кого Вам эмпатировать? Реальные люди, кроме самых близких, обычно защитно-закрыты – или слишком сложны. Именно поэтому в данном цикле «сверхпопулярных» лекций выбран прием апелляции к литературным образам, причем к образам детских/юношеских книг.
И вообще, Вы не задумывались, почему человек читает (если вообще читает) только лет до 20–25? Позднее, за редким исключением, идут, в лучшем случае, чисто развлекательные или «модные» книги. Любому детёнышу надо познавать мир, куда он вступает – это условие выживания, инстинктивная потребность. Естественное удовлетворение инстинкта приносит радость: ребёнок читает, потому что ему это нравится! И радость ему приносят именно психологически «правильные» книги – их героев любят, с ними смеются, с ними плачут; они воспринимаются как частичка тебя самого. Эмпатия. Позднее этого уже не будет. Но опыт эмпатии, опыт разнообразия психических миров уже получен. А детские книжки – потрепанные, любимые, сохраняются в памяти как никакие другие. К этому источнику я и обращаюсь.
И еще – Вы не задумывались, почему в детстве и юности любимыми жанрами являются сказка и фантастика? (Для девушек еще – любовные романы, которые тоже, в узких рамках жанра, фантастика). Зачем они, если цель чтения – подготовка к реальной жизни? Затем, что будущее пока НЕ реально. Если бы оно реализовалось точно в тех же формах, что и для предыдущего поколения – вот это и была бы настоящая фантастика. Каждое новое поколение живет в новом мире – так было всегда, а с конца 19 века дело усугубилось еще научно-технической революцией: технический антураж начал меняться слишком быстро. И тогда появляются «технические» фантасты (Жюль Верн, Герберт Уэллс). Не важно, что куча их предсказаний совершенно не оправдалась, а важно то, что для вступающего поколения стресс дезадаптации к технической эпохе был снят.
Середина 20 века. Атомная бомба, выход в космос, жестокие социальные эксперименты. Все предварялось соответствующей фантастикой (Беляев, Стругацкие, Кларк, Азимов, Лем). Конец 20 века. Вызревание новой компьютерно-информационной цивилизации – те же и новые имена. Но за технической/социальной стороной дела как-то терялась «психологическая» фантастика, хотя она присутствовала всегда: те же Уэллс (Человек-невидимка), Лем (Солярис), Азимов (Я – робот). Да что там Азимов! Оказывается, современный психологический хит – множественная личность – был предварен Стивенсоном 125 (сто двадцать пять!) лет назад. Правда, не без ошибок (их мы обсудим в следующем разделе), но «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» [26] дает нам эмпатическую возможность “постигнуть феномен диссоциации” (по вышеприведенному выражению Мак-Вильямс [3]) без соответствующего клинического опыта.
5. Ошибка доктора Джекила
Вкратце история доктора Джекила такова (напоминаю – для тех, кто читал книгу или смотрел экранизацию, или ввожу в курс дела – для всех остальных). Респектабельный и добродетельный доктор Джекил не хочет портить свой внешний и внутренний имидж существующей в его «Я» примесью – увы! – бессовестного искателя удовольствий; он выделяет эту «примесь»; вполне научным образом, изготовив специальную тинктуру. Под действием препарата телом и сознанием доктора Джекила завладевает «мистер Хайд», который пускается во все тяжкие под возмущённо-сочувственным присмотром Джекила. С течением времени Хайд постепенно набирает силу, «возвращаться» в Джекила (прием того же препарата) становится все труднее, а тут еще – о ужас! – тинктура перестает действовать, так как новые партии ингредиентов для ее изготовления оказываются непригодными: по-видимому, первая партия содержала какую-то необходимую примесь. Под действием последней порции годного препарата Джекил пишет объяснительную записку своему другу, самопроизвольно превращается в Хайда, а тот вынужден покончить с собой дабы избежать виселицы за все дела, сотворенные в процессе своих увеселительных прогулок.
Боюсь, что голый сюжет не вдохновляет на чтение самой повести. А вы все-таки попробуйте, если еще не читали. Тогда поймете, чем конспект отличается от живого произведения.
“… и вот в одну проклятую ночь я смешал все элементы, увидел, как они задымились и закипели в стакане, а когда реакция завершилась, я, забыв про страх, выпил стакан до дна. Тотчас я почувствовал мучительную боль, ломоту в костях, тягостную дурноту и такой ужас, какого человеку не дано испытать ни в час рождения, ни в час смерти. Затем эта агония внезапно прекратилась, и я пришёл в себя, словно после тяжкой болезни. Все мои ощущения как-то переменились, стали новыми, а потому неописуемо сладостными. Я был моложе, все мое тело пронизывала приятная и счастливая лёгкость, я ощущал бесшабашную беззаботность, в моем воображении мчался вихрь беспорядочных чувственных образов, узы долга распались и более не стесняли меня, душа обрела неведомую прежде свободу, но далекую от безмятежной невинности. С первым же дыханием этой новой жизни я понял, что стал более порочным, несравненно более порочным – рабом таившегося во мне зла, и в ту минуту эта мысль подкрепила и опьянила меня, как вино. Я простер вперед руки, наслаждаясь непривычностью этих ощущений, и тут внезапно обнаружил, что стал гораздо ниже ростом… И все же, увидев в зеркале этого безобразного истукана, я почувствовал не отвращение, а внезапную радость. Ведь это тоже был я” [26].
Тут Стивенсон совершенно прав: все субличности – равноправные члены «Я». Заболевание состоит в их разделении, лечение – в интеграции. Процесс этот обычно длительный, может тянуться годами, но «укорочение» времени противопоказано. С диссоциативными людьми оно не только бесполезно (для формирования доверия требуется длительное время, и “преждевременное давление на пациента только усиливает недоверие), но может привести и к прямо противоположному эффекту. Не следует делать ничего такого (особенно в деле оказания помощи ментальному здоровью), что привело бы к повторной травматизации человека, уже и так израненному больше, чем остальные” [3, c.438].
А теперь поговорим об «ошибках» Стивенсона, чтобы, наслаждаясь произведением и эмпатируя феномен МЛ, читатель имел в виду и современное клиническое описание этого феномена. Во-первых, отсутствует абъюз – классический инициатор множественности. (Хотя надо отметить, что множественная личность начинается с абъюза не всегда – и это даже для известных, клинически описанных случаев; необходимыми условиями развития МЛ являются только природная склонность к диссоциации и способность к самогипнозу). У Джекила абъюза нет. Вместо детского стресса – внутренне подавление:
“… но я, поставив перед собой высокие идеалы, испытывал мучительный, почти болезненный стыд и всячески скрывал свои вовсе не такие уж предосудительные удовольствия. Таким образом, я стал тем, чем стал, не из-за своих довольно безобидных недостатков, а из-за бескомпромиссности своих лучших стремлений – те области добра и зла, которые сливаются в противоречиво двойственную природу человека, в моей душе были разделены гораздо более резко и глубоко, чем они разделяются в душах подавляющего большинства людей” [26].
Во-вторых, субличности имеют раздельные памяти (за возможным исключением так называемой личности-хозяина, о которой ниже). У Стивенсона – наоборот: и Джекил, и Хайд знают друг о друге всё. Но это не мешает им относиться друг к другу совершенно по-разному:
“Мои две натуры обладали общей памятью, но все остальные их свойства распределялись между ними крайне неравномерно. Джекил (составная натура), то с боязливым трепетом, то с алчным смакованием ощущал себя участником удовольствий и приключений Хайда, но Хайд был безразличен к Джекилу, и помнил о нем, как горный разбойник помнит о пещере, в которой он прячется от преследователей. Джекил испытывал к Хайду более чем отцовский интерес. Хайд отвечал ему более чем сыновним равнодушием” [26].
В-третьих, обладая раздельными памятями, субличности владеют общим телом, хотя могут представлять его для себя по-другому, в зависимости от субличности – временного хозяина. Этот феномен все же заметен окружающим – на уровне поведения и реакций тела: меняется мимика, голос, рисунок движений (походка и др.), даже рост (сгорбился – распрямился). Но у Стивенсона тело меняется до неузнаваемости, в сущности, это – другое тело:
“ – Сэр, – сказал дворецкий, чье бледное лицо пошло мучнистыми пятнами, – это была какая-то тварь, а не мой хозяин, я хоть присягнуть готов. Мой хозяин, – тут он оглянулся и перешел на шёпот, – мой хозяин высок ростом и хорошо сложен, а это был почти карлик…” [26].
В-четвёртых, собственно расщепления на две (или больше) личности не произошло: отщепился только Хайд:
“В результате, хотя теперь у меня было не только два облика, но и два характера, один из них состоял только из зла, а другой оставался прежним двойственным и негармоничным Генри Джекилом, исправить и облагородить которого я уже давно не надеялся. Таким образом, перемена во всех отношениях оказалась к худшему” [26].
То есть, Стивенсон описывает не фрагментацию «Я» а, скорее, дубликацию части «Я» в виде самостоятельной субличности при полном сохранении личности-хозяина. Что означает этот термин? По Мак-Вильямс “«Я» индивида с нарушением по типу множественной личности… фрагментировано на несколько отщепленных частичных собственных «Я», каждое из которых представляет некоторые функции. В типичных случаях к ним относятся: личность-хозяин (она наиболее очевидна, чаще обращается за лечением и имеет тенденцию быть тревожной, дистимической и подавленной), инфантильные и детские компоненты, внутренние преследователи, жертвы, защитники и помощники… Хозяин может знать всех, некоторых, или никого из них” [3, c.429].
Вот четыре основных «ошибки» Стивенсона. А какова же ошибка доктора Джекила, которая привела его к трагическому финалу? Он сам о ней написал в своей прощальной записке:
“Зло в моей натуре, которому я передал способность создавать самостоятельную оболочку, было менее сильно и менее развито, чем только что отвергнутое мною добро. С другой стороны, самый образ моей жизни, на девять десятых состоявший из труда, благих дел и самообуздания, обрекал зло во мне на бездеятельность, и тем самым сохранял его силы” [26].
Тот, кто пытался стать «сам себе психотерапевтом» по популярным книжкам, наверняка читал фразы-заклинания «Примите себя самого» и «Примите ответственность за себя». Без конкретного контекста и соответствующих разъяснений это только раздражает. Вот вам и контекст. А к стандартным советам я бы прибавила «Понимайте себя» – для чего, собственно, и написана эта книга.
Домашнее задание
Тема была трудной и спорной, так что обойдемся без домашних заданий. Гуляйте! Тем же, не хочет гулять, а хочет понимать (только без фанатизма!) предлагаю почитать на тему множественной личности две современные книжки: беллетризованную историю болезни [27] и чистой воды детектив [28]. Оба автора, в рамках жанра, серьезно подходят к теме, а Киз, помимо прочего, еще и профессиональный психолог. Но – странная история с доктором Кизом! – выдуманный Чарли Гордон, герой его фантастического романа [29], оказывается гораздо живее и эмпатичнее реального Билли Миллигана, документально описанного в [27]. А вы говорите – «какие-то сказки»…
Лекция 8. ПАРАНОИДНАЯ ЛИЧНОСТЬ – в натуре и в проекции
1. Вступление эмпатическое: подозрительная подмена терминов
Тема параноидного типа личности всколыхнула во мне соответствующие эмоции. Что поделаешь, эмпатия!
Прежде всего, показалось несправедливым, и даже обидным, что человека с шизоидным типом личности, более того, с шизоидным расстройством личности, называют “шизоидом” – и никто не клеит ему при этом ярлык “шизофреника”. А вот “параноиком” обзывают всех: и явно больных (так называемое бредовое расстройство с устойчивым отрывом от реальности при помощи формирования стройной бредовой системы) и полу-больных параноидным расстройством личности (связь с реальностью достаточно прочная для обеспечения безопасного функционирования вне стационара, так как за бредовыми построениями бдительно следит трезвое “Я” – хотя всего уследить не успевает), и здоровых людей с определенной организацией характера – параноидным типом личности. Простая справедливость требует, чтобы здорового звали параноид, а больного – параноик. Так нет же! И в народе, и в психиатрической среде всех их называют только параноиками.