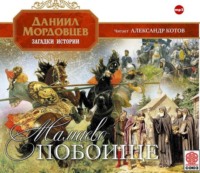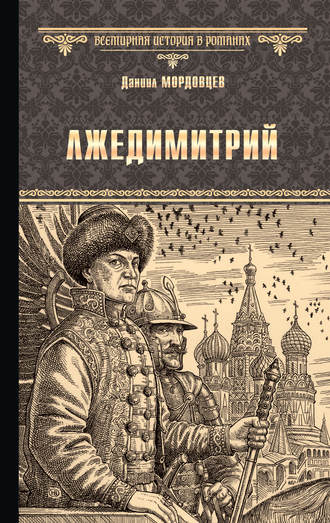
Полная версия
Лжедимитрий
Орел кружил высоко в воздухе. Слышен был только жалобный, не то злобный клекот обиженного человеком пернатого хищника-царя. Птица плакалась на человека…
Вблизи послышались визгливые звуки пискалок, песни, говор и лошадиный топот. Показались знамена, значки, торчавшие на пиках ногайские мертвые головы.
Это шел Корела со своим войском. Хор песенников заливался:
По речушке, по рекеПлывет Дуня в каюке.Ох-ох-охо-хох,Плывет Дуня в каюке.IV. Димитрий у Мнишека
С берегов тихого Дона перенесемся на далекий Запад, за окраины Русской земли.
В городе Самборе, ныне австрийско-галицком, а тогда польском, у сендомирского воеводы Юрия Мнишека идет богатое столованье – роскошный панский пир.
Довольством, избытком и, казалось, вечным счастьем наделило небо своих избранников, родовитых панов вольной, могучей, непобедимой Польши. Наделило щедрое небо довольством и счастьем выродившегося чеха Юрия Мнишека-Мнишечка… Богатый замок раскинулся широко и привольно. Окружающие его башни, блестя, словно серебром, жестяными крышами, тянутся к небу, высоко вознося панскую славу Мнишеков. Широкие ворота распахнули свои широкие объятья для званых и незваных гостей: иди, благородное панство! Ешь, пей и веселися во славу Мнишеков и золотой польской вольности.
На панском плаце высокие вышки с золочеными маковками. Над фронтоном палаца красуется гордый герб Мнишеков – пучок перьев. Ни время, ни вечность, ни люди, ни боги – ничто, казалось, не потемнит этого герба, как не потемнит ничто блеска Польши, могучей и славной.
А внутри палаца – рай, да и только! Затейливо разрисованные потолки, узорчатые карнизы, резные створки дверей – все блестит золотом, горит яркими красками. Стены, столы, скамьи, полы – это выставка дорогих тканей, ковров, шелков с пестрыми, веселящими глаз и сердце картинами любви, охоты, войны, болтливой мифологии и лживой истории. На стенах – картины, портреты королей и предков, и все это в дорогих золоченых рамках… Лавки и кресла – на золоченых ногах, с золочеными рукоятками и резьбою. Везде золото, золото и золото! Как много его выкапывали глупые хлопы из земли, как много его выплавливалось из человеческих слез, крови и хлопского мяса! О, золотое, невозвратное польское прошлое!
Пир только начинается. Прозвучал призывной колокол – и гости спешат в обширную столовую. О, как много этих гостей, как много этих счастливых, обитающих в счастливой Польше, текущей медом и млеком! А теперь наехало их еще больше. Да и как не приехать? Говорят, что в доме воеводы будут показывать некое чудо, с помощью которого вольная и счастливая Польша может прибрать к рукам неизмеримые царства хлопской, варварской, отатаренной Московщины. О, как широко разольется тогда вольность польская! Как далеко, неизмеримо далеко разнесет эта дорогая вольность благозвучную, поэтическую речь польскую – этот язык любви, поэзии, свободы!
И боже мой! Сколько же злата, блеска, пурпура, драгоценных камней и каменных сердец навезли с собой и на себе эти роскошные гости! Сколько красоты, изящества и пестроты стекается в поместительную столовую, словно в блестящий цветник! Что за прелесть – женщины, что за красота – мужчины! Сколько обаяния и кокетства в первых, сколько неотразимого мужества в последних: закрученные усы так и кричат о гордости и благородстве, блестящие карабели звенят о победах и воинской славе, большие буты стучат так внушительно о свободе…
Пол столовой, в которую вступали гости, весь усыпан пахучими травами и ароматными цветами – это аромат вольности и славы. В воздухе – облака благовонных курений: это слава и гордость великого царства возносится к небесам. В одном углу столовой, за перилами, возвышается пирамида, унизанная сверху донизу золотою и серебряною посудой; в противоположном углу, также за перилами, – богатый оркестр, духовые инструменты которого горят, как чистое золото. Гости входят чинно, по рангам, по реестру. Маршалок, почтительно стоя у дверей, следит за порядком этого вступления благородных гостей в святилище пира, наблюдая в то же время за стаями хлопов, облаченных в гербовые ливреи и готовых провалиться сквозь землю при всяком мановении маршальской или панской руки. По мере вступления гостей в столовую четыре отлично дрессированных хлопа почтительно подходят к ним для совершения обряда омовения: один хлоп держит таз, другой из серебряного кувшина льет на руки гостю благовонную воду, два последних подают шитое по краям полотенце, которым гость и вытирает свои благородные руки.
Хозяин, вельможный пан Мнишек, с изысканною любезностью принимает дорогих гостей. Полнотелая, упитанная довольством и сознанием собственного достоинства фигура пана воеводы сендомирского и скользит, и катается по цветному полу обширного покоя от одного гостя к другому. Высокий лоб, утративший немало волос в многолетнем служении ясновельможному королю Сигизмунду-Августу и богине Афродите, небольшая, круглая, как и панский живот, борода, выдающийся вперед, как у плотоядного зверя, подбородок и голубые, чешские, но более чем у простого чеха, плутоватые глаза, – весь этот типический лик принимает оттенки всевозможных выражений, смотря по тому, к кому обращается это слащаво-плутовское лицо: покорно-лисье перед высшими, изящно-петушиное перед низшими и положительно неизобразимое перед хорошенькими пани и панами.
Для каждого из гостей у хозяина готово приветствие, вопрос, шутка, любезный каламбур, выразительная улыбка, изящный поклон. Хозяину платится тем же: наклонение голов, шарканье ног, бряцанье карабелей и шпор, рыцарские осанки, закручиванье усов, в знак удовольствия и чести, стрелянье хорошенькими глазками из-под черных соболиных и русых соколиных бровок прелестных нани; приседанье и показывание блестящих перламутров из-за розовых губок восхитительных паненок – голова, кажется, пойдет кругом от всего этого, только не у такого боевого коня гостиной, как пан воевода сендомирский.
Но вот во внутренних покоях палаца слышится особенное движение, таинственный шум, что-то чрезвычайное… Шум близится к приемному покою… Хлопы суетятся, словно им за чулки и за пазухи жару насыпано. Панские глаза и глазки разгораются…
Да. В сопровождении ясновельможного князя Константина Вишневецкого – «нечто московское»… Все головы и взоры обращаются в ту сторону.
Входит невысокий, сухощавый, с рыжевато-русыми волосами юноша… Смуглое, некрасивое, кругловатое лицо, изобличающее необычайную, львиную мощь в скулах – ту именно мощь, которая в состоянии раздавить Московское царство, словно гнилой орех; большой, широкий, с широкими, энергически очерченными ноздрями нос, в свою очередь изобличающий необычайно энергичную работу легких, которым нужно слишком много и втягивать и выдыхать воздуха, чтобы удовлетворить кипучую натуру этого пришлеца; голубые глаза, как-то, если можно так выразиться, постоянно о чем-то «своем» думающие, но никому этого «своего» не выдающие, – все невольно и повелительно приковывает внимание к этому задумчивому юноше… И в самой бородавке, что сидит под носом, видится что-то необычайное, и от этого широкого, угловатого черепа отдает упрямою, безумно самонадеянною силою. Чувствуется, что и сила эта – угловатая, неровная…
Как, однако, он неловко, несмело выступает среди блестящей обстановки воеводских покоев. Но это, может быть, лев, выступающий из клетки, – неразмявшийся, не выправивший стальных мускулов, не видящий еще жертвы, на которую он бросится…
Хозяин представляет ему наиболее знатных гостей. Пришлец приветствует их кратко, угловато, но царственно с диким, московским царственным величием… Шея его не гнется, а холодные, как московские льды, глаза, глубоко забираясь в душу, заставляют кланяться ему, робеть перед ним, когда он сам, кажется, робеет, но только – дико, по-львиному…
Да, это он… Эта угловатая голова необычно сделана – этот угловатый череп выкован по форме короны – тут должна крепко сидеть корона!
Это – московский царевич Димитрий, сын страшного мстителя татарам, покорителя Казанского и Астраханского царств сын царя Ивана Грозного, чудесно спасшийся от ножей убийц.
Мнишек сажает царевича на почетное место. По правую сторону его помещается князь Вишневецкий, по левую – прелестнейшее существо, с черными, как вороново крыло, роскошными волосами, с черными, как вороненая сталь, и подчас холодными, как эта сталь, подчас жаркими, бросающими в озноб глазами. Это дочь воеводы, Марина, сестра той, которая сидит рядом с князем Вишневецким, своим мужем, сестра хорошенькой Урсулы. Марина старше Урсулы: но младшая сестра опередила старшую замужеством, потому… да потому, что Урсула – не Марина. Марина не удовольствовалась бы Вишневецким. Марина не из таких девушек, конечная цель стремлений которых замужество: хоть черт – да муж, хоть скот – да супружеское ложе дает. Хорошенькая головка Марины не о том помышляла. Иные образы, иные видения окутывали ее детство, отрочество, молодость. Идеалы недосягаемые, картины невиданные носились в этих чудных видениях над задумчивою головкою девочки.
Словно и теперь на мгновение посетили ее эти видения. Мысли и взоры ее унеслись куда-то… зрачки ее больших прелестных глаз расширены…
Да, она унеслась далеко – в детство свое, в отрочество, в сферу своих видений… «Они исполняются… – что-то шепчет внутри нее. – Ох, страшно до ужаса стоять на такой высоте… на миллионах голов… выше царств… и спасти эти миллионы… ох, страшно, страшно!..»
Еще маленькими девочками обе сестры, и Урсула и Марина, были так непохожи одна на другую. Нарядненькая, разодетая, завитая Урсула охорашивается перед зеркалом, напевает веселые песенки, мечтает о том, как она в воскресенье, в костеле, поразит своего вздыхателя новым бантом в волосах…
– Ах, Марыню, посмотри – идет ли ко мне этот пунцовый бант?
А Марыня не видит, не слышит… Она стоит у окна и смотрит на развертывающиеся перед ее глазами живописные картины берега Днестра с грандиозными изломами горного кряжа, на величественную панораму Заднестровья… Но ни этих картин, ни этой панорамы не видит она. Видит она невиданные страны, невиданных людей… Перед нею дивные неведомые царства, неведомые народы, неведомая природа… Эти неведомые царства она, Марыня, просвещает светом божественного учения… Она стоит на возвышенной равнине под жгучим солнцем, и одинокая пальма, под которою она стоит, не может даже бросить тени, потому что экваториальное солнце печет ее вертикальными лучами. Вокруг, сколько в силах окинуть глаз, волнуется море из голов человеческих – это народы, пробужденные ею к новой жизни… О, какие массы их! Как велико это море людское! И веют над этим живым морем знамена, и на знаменах новые кресты – целый лес, целый бор знамен, преклоняемых перед нею, Марынею, и она благословляет этот лес знамен, эти волны народов, ею обращенных к свету Евангелия, этих царей в золотых коронах и в барсовых да львиных шкурах, с копьями и стрелами. Эти цари, народы, целые страны неведомого мира пришли поклониться ей, Марыне, великому миссионеру великого, вечного Рима, послу наместника Христова…
– Марыню! Марыню! Да посмотри же! Ах, какая ты дикая! – нетерпеливо щебечет Урсула, рисуясь перед зеркалом.
А «дикая» Марыня все стоит у окна и смотрит, далеко куда-то смотрит и что-то далекое видит… Видит она себя в вечном Риме, в Капитолии, на возвышении, рядом со святым отцом… И святой отец возвещает народу о ней, о Марыне, о ее великих проповеднических подвигах, о том, что она словом Божиим завоевала Церкви новые, неведомые страны, обратила в христианство миллионы народов неверных… И вечный Рим ликует! Гремит имя Марыни нового апостола неведомых стран, и также перед нею веют знамена, и также этот лес знамен преклоняется пред Марыней, и стонет голосами великий Рим, прославляя имя Марыни…
– Да у тебя коса распустилась, Марыню. Ах ты, дикарка! – волнуется Урсулочка.
А «дикарка» все стоит неподвижно, не замечая, что ее вороненая «сталь-коса» действительно распустилась, тяжелые пряди свесились ниже пояса. Да и как этим прядям не упасть с головки Марыни? На этой головке – Марыня чувствует, царская корона… Марыня, подобно Иоанне д’Арк[2], ведет легионы для спасения своей дорогой Польши от диких турок, от схизматиков москалей-варваров…[3] И вся Польша рукоплещет ей, Марыне, и татко рукоплещет, и Урсула…
– Просим! Просим! – раздались голоса гостей.
Марыня опомнилась. Она – не Марыня, а уже Марина. Около нее сидит московский царевич… Неужели видения детства сбываются?
– Когда Бог с помощью великодушного и во всем свете гремящого славою польского народа восстановит меня на прародительском престоле, я выведу Московское царство из мрака варварства, я насажу в моем отечестве цветы просвещения, и великодушная Польша с ее прекрасными обычаями будет служить для меня примером, – говорил с воодушевлением этот таинственный юноша, которого называли московским царевичем.
– Да здравствует царевич Димитрий! – воскликнуло несколько голосов.
Марина вздрогнула… Да, это он, царевич Димитрий, который не смеет поднять на нее глаз. А она видела эти глаза – странные, глубокие, с каким-то двойным светом, словно там, в глубине, виднеются другие глаза, и другой облик там виднеется человеческий…
Бесконечный обед подвигается к концу. И подстолий, и кравчий, и подчаший, распоряжающиеся стаями слуг, сбились с ног. Устали и слуги, бегая с блюдами уже третьей и четвертой перемены и ставя на столы всевозможные яства: жаворонки, воробьи, чижи, коноплянки, чечетки, кукушки, петушьи гребешки, козьи хвосты, хвосты бобровые, медвежьи лапы – все перебывало на столах.
А сколько тостов! Сколько вылито вина в разгоряченные пиром и шумною беседою глотки!
А какие невиданные цукры украшают столы! Целые горы изделий и печений из сахару – люди, города, деревья, животные… А это что за небывалые цукры? Двуглавые орлы, Московский Кремль с позолоченными куполами церквей… А это что такое? Сахарный трон, на троне, в странной шапке, в виде короны, – юноша… Да это московский царевич… вон и бородавка из сахару, и сахарная корона – это шапка Мономаха…
И музыка играет неустанно. С музыкантов пот катится, а духовые инструменты гудят и завывают.
У Марины голова кружится, как ни привыкла она к подобным пирам; но тут в воздухе что-то особенное, одуряющее…
– И Кир, царь Персидский, и Ромул, Римский, были пастухами… А какие великие государства заложили… А я – царской крови, я «прирожовый державца», – говорит кто-то около Марины.
Это говорит он – с непонятными глазами!..
– Он истинный царевич! – слышится возглас.
Марина опять вздрагивает… Он – рядом с нею, а потом он будет высоко на троне… Куда же исчезли видения детства?
– Москва – народ грубый, варварский, пане… А этот знает и историю и риторику. Он должен быть царский сын, пане, долетает до слуха Марины смешанный говор.
А Урсула щебечет с кем-то. Ей весело. И татко весел. Только ей, Марине, невесело – ей что-то страшно… Как душно кругом! Жарко, словно там, под экваториальным солнцем, под одинокой пальмой…
– Вы достигнете благих целей, ваше царское высочество, если отдадите себя могущественному покровительству святого отца, – ласкающим голосом говорит ксендз Помасский.
– Я буду просить покровительства святого отца, – отвечает таинственный юноша.
– Я бы советовал вашему высочеству прежде всего написать нунцию Рангони, выяснить ему ваше положение, ваши надежды и дальнейшие намерения, – продолжает ласкающий голос отца Помасского.
– Я напишу…
– По благословению его святейшества вся Польша пойдет за вашим высочеством.
– Идем! Все идем! – ревет собрание.
Обед подходит к концу. Говор становится смешанным, неясным… Дамы удаляются на другую половину.
Выходит и Марина. Она шатается.
– Поддержи меня… мне дурно… я упаду, – шепчет она сестре.
Испуганная Урсула ведет ее в спальную.
– Московия… Сибирь… Азия…
– Что с тобой, Марина? Ты что-то шепчешь… Ты больна? Езус-Мария!
Дойдя до гипсового, обвитого плющом большого распятия, Марина крыжом упала перед ним и заплакала.
V. На охоте
В Самборе шли пиры за пирами. Со всех сторон съезжалась шляхта, чтобы посмотреть на московское чудо и попировать. Как волны от брошенного в воду камня, расходились слухи от Самбора, и чем дальше проникал слух, тем фантастичнее становился он, тем таинственнее и привлекательнее делался образ того, около которого носились эти облака слухов, легенд, предположений и загадываний в далекое будущее.
Когда он еще был ребенком, то его переводили из монастыря в монастырь, чтобы скрыть от Годунова. Всю Московию прошел он, до Сибири дошел; но и там искали его шпионы Бориса. Он ушел к лопарям, оттуда на Ледовитый океан. Норвежские китоловы взяли его на льдинах северного моря… Из Швеции пробрался он к ливонским рыцарям, а оттуда с рыцарем Корелою пошел на Дон… Он отлично ездит на коне, превосходно владеет оружием, убивает ласточку на лету! Он не схизматик, а католик – принял католичество в Риме!.. Там его видели пилигримы, во власянице и в веригах. Он молился и плакал о своей холодной Московии, которую Бог покарал за схизму – посадил на московский престол татарина[4], казанского мурзу… Царевич дал обет святому отцу вывести из Московии проклятую схизму и насадить католичество… Он сольет всю Московию и Сибирь с Польшею, как слилась с нею Литва, и тогда Польша раскинется от Одера и Вислы до Китая, до Ледовитого и Тихого океана… Оттуда польские удальцы переплывут в Америку – и золотая польская речь зазвучит на развалинах царства Монтесумы[5], и останутся только два великих народа в мире – поляки и французы…
После одного из самых роскошных пиров Мнишек, провозгласив тост за здоровье московского царевича и за предстоящую дружескую связь Польши с Москвою, объявил гостям, что остальную часть дня они должны посвятить охоте и показать дорогому московскому гостю всю прелесть польского полкванья.
И мужчины и дамы приняли это известие с восторгом. Охота сама по себе – наслаждение для благородных сердец, а охота в присутствии постороннего наблюдателя – да при том не простого, а птицы самого высокого полета, – это уж акт национального торжества.
Вскоре было все готово к выступлению – и выступление началось. Рога трубят что-то необычайное, дворовые охотники давно на своих местах. Лошади ржут от нетерпения. Собаки прыгают и визжат от радости.
А что за прелесть эти пани и панны на красивых выхоленных конях! Все блестит золотом и серебром. Солнце играет на гладко полированном оружии, на серебряных уздечках, на рыцарских шпорах, на дамских ожерельях, на собачьих ошейниках…
Тут и сам Мнишек во главе поезда. На седле он кажется много выше, величественнее. Тут и Урсула и Марина. Последняя смотрит оживленнее: сквозь матовую белизну щек просвечивает нечто вроде румянца, такого нежного, едва уловимого глазом, но тем еще более чарующего; глаза ее кажутся еще чернее, еще больше… Да и как им не быть больше? Они, кажется, начинают прозревать ту темную бездну, из которой смотрели на нее другие глаза с непонятною для нее думою… Теперь она, кажется, что-то уловила там, в бездне: что-то блеснуло оттуда, словно из другого мира, и освещает путь в этот далекий, неведомый мир… Вместо пальмы там стоит одинокая сосна, вместо экваториального солнца – ледяное море; даже небо какое-то ледяное. Да что за дело до этого ледяного моря, когда внутри ее души что-то теплится?..
– Посмотри, Марыню, как он странно сидит на коне, – шепчет шаловливая Урсула. – Точно истукан на троне.
Марина смотрит и ничего не видит странного. Он сидит спокойно, ровно, твердо, не вертляво, как пан Стадницкий, не закручивает своих усов, как пан Тарло, не рисуется, как пан Домарацкий…
– А какой татко смешной! Точно сам пан круль, – болтает неугомонная Урсула.
Марина смотрит в сторону отца и улыбается. Тот торжественно шлет ей поцелуй по воздуху и, словно бес, вертится около царевича.
Под царевичем белый конь выступает грузно, солидно, выгибая свою лебединую шею. Сам Димитрий смотрит молодым шляхтичем: модный портной с головы до ног превратил его в поляка и только маленькой шапочке придал что-то неуловимое, что-то такое, что напоминало корону.
– Знаешь, Марина, кого он теперь напоминает? – говорит Урсула. – Помнишь московский герб, что нам татко показывал?
– Помню.
– Помнишь – там в середине герба кто-то скачет на белом коне и копьем бьет в пасть страшнаго змея с ногами.
– Да, это, отец говорит, Георгий-победоносец, он поражает дракона, чтобы спасти царскую дочь.
И, сказав это, Марина покраснела. Урсула заметила это.
– А, тихоня! Кто эта царская дочь? Ну, говори – кто?
– Не знаю…
– То-то, тихоня, не знаю!.. А знаешь, Марыню, в Москве на него вместо хорошенького кунтуша наденут зипун золотой, без рукавов.
Марина потупилась и ничего не отвечала, тем более что в это время к ней подъехала на красивом аргамаке полненькая блондинка в лиловом берете с страусовыми перьями. Белокурые волосы, выбиваясь из-под берета, развевались по ветру. Несмотря на свою полноту и, по-видимому, не первую молодость, блондинка ловко сидела в седле.
– А молодой «московский медведь», кажется, ранен, панна Марина? – сказала она, лукаво улыбаясь. – Панна замечает это?
– Ах, пани Тарлова! Марыня ничего не замечает! Она не заметила даже за обедом, как «московский медведь» чуть цыпленком не подавился, когда она на него взглянула, – говорит Урсула.
Пани Тарлова расхохоталась. Только Марина ехала молча.
– Ах, панна Марина! Не миновать вам московской кики и душегреи… Видите, как «медведь» косится на вас? – продолжала пани Тарлова. – Наденут на вас московский сарафан и кику.
– Кику, пани? Как смешно! Что это за кика такая, пани? – смеялась Урсула.
– Кика?.. Это – нечто московское: мода у них такая. Этакий берет с рогами…
– С рогами? Ах, какой ужас, пани! Ах, Езус-Мария!
– Не смейтесь, пани Вишневецка, – серьезно вдруг говорит пани Тарлова. – Может быть, через несколько месяцев вы сочтете за честь, пани, быть покоевой у московской царицы, у вашей младшей сестры.
А черная головка Марины думала, настойчиво думала – только не о короне. В голове ее и во всех нервах, словно горячечный бред, неумолчно звучали слова, брошенные ей сегодня в костеле отцом Помасским, когда она прикладывалась к иконе Святой Девы: «Помни, дочь моя, что Бог избрал орудием своего благого промысла для спасения рода человеческого Деву чистую… Способна ли и достойна ли ты стать орудием Бога для оказания нового промысла над слепотствующей половиною рода человеческого?.. Подумай об этом, любимая дочь моя в Боге… Подумай – перст Божий на тебя направляется…»
«Перст Божий! Как страшен этот перст… Господи! Что же это такое? Спаси меня. Дева Святая! Я не достойна… Я не вынесу страданий. Ох, страшно, до ужаса страшно стать над этой пропастью… А если эта пропасть меня ждет как жертвы?.. Но я – малая жертва, я пылинка в мире… А великие дела требуют великих жертв… Мамо! Мамо! Научи меня…»
– О чем мечтает черная головка под пунцовым беретом? – вдруг раздается мужественный голос над ухом Марины.
Девушка вздрогнула. Рядом с нею ехал пан Домарацкий, перегнувшись на седле и заглядывая ей в лицо.
– Как вы прелестны, панни Марина, и в особенности сегодня, – продолжал Домарацкий. Я не удивлюсь, если князь Корецкий, с отчаянья, пойдет один на медведя и найдет смерть в его объятиях вместо других объятий, о которых он мечтал.
Марина побледнела. Она как бы вспомнила что-то и, немного помолчав, сказала:
– Пан зло шутит, я этого не ожидала от пана.
Ей стало жаль почему-то молодого Корецкого. Они были давно дружны, он так непохож на всех остальных. И вдруг в последнее время он как-то ускользнул из ее глаз, из ее памяти… Бедный Дольцю! Марина чувствовала, что она не то жестока, не то несчастна… Ей плакать хотелось. А тут в сердце наболевает что-то острое: «Подумай, дочь моя, перст Божий на тебя направляется…» Дольцю! Дольцю!
В это время к ней подъехали еще два всадника, и взоры всех охотников обратились в ту сторону. Подъехавшие были сам Мнишек и царевич.
– Куда ты вдруг девала свой румянец, цуречка моя? – нежно обратился старик к Марине. – А за обедом была такая розовенькая. Не болит головка?
– Нет, татуню, это волнение перед битвой, – отвечала девушка, улыбаясь.
– А панна любит битву? – спросил царевич как-то загадочно.
– С зверями, князь? О нет, мне жаль бедных зверей.
– Панна права. Но битва – удел мужчины.
– И женщины… – добавила Марина тоже загадочно.
– О! Она у меня Иоанна д’Арк! – весело сказал Мнишек, взглядывая многозначительно на царевича.
Марина чувствовала, что она вновь краснеет. Она чего-то ждала и – боялась.
– О! Счастлив должен быть тот монарх, который найдет свою Иоанну, – медленно сказал Димитрий.
Затрубили рога. Поле охоты и лес были близко. Поле было ровное, открытое, с двух сторон окруженное лесом, который раскидывался с одной стороны по полугорью и кое-где открывал небольшие прогалины; с другой стороны синел сплошной бор, упиравшийся в извилистые берега Днестра.