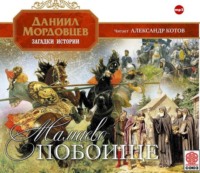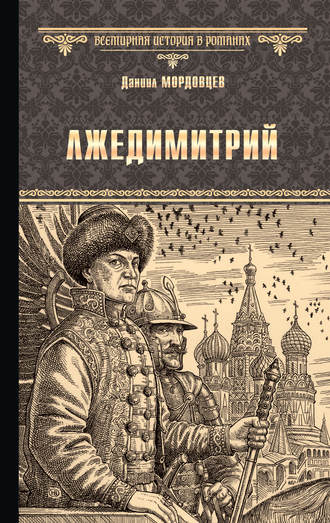
Полная версия
Лжедимитрий
А за боярышником тянется новая хоровая:
Не спасибо те, игумену тебе,Не спасибо те, бессовестному,Молодешеньку в монашенки постриг,Зеленешеньку посхимиил меня…– … Ужасом повеяло на меня от слов сих, – продолжал Отрепьев, как бы силясь отогнать от своего слуха назойливое пение хоровода. – А голос был знакомый!
– Чей же это голос был?
– Его, «инока Димитрия с бородавкой».
– Кто ж его голосом говорил-то в пещерах? Кто молился?
– Он же, «Димитрий с бородавкой»…
– И ты видел его там?
– Видел, после. И он потом заметил меня и зело смущен был. «Ты слышал молитву мою?» – говорит. «Слышал», – говорю. «Никому же, – говорит, – не повеждь тайну сию, дондеже Господь не восставит меня на царстве моем».
– Когда же он объявился царевичем?
– На третий год после сего.
– А кому объявился?
– Польскому князю Вишневецкому Адаму. И объявился случаем. В Киеве проживал он у князя Острожскаго, у воеводы, на княжом дворе, где московских людей, а наипаче иноков, принимали с охотою; но Острожскому он не объявился. Из Киева он перешел в Гощу, к панам Гойским, и тамо в учение вдал себя… и победи все княжные мудрости даже до риторики и философии.
– Да откуда ж он взялся, когда он был маленьким зарезан в Угличе?
– Зарезан не он был! Его подменили на погибель Годунова.
– Как же, Юша, так, коли Годунов тогда еще не царствовал?
– Не царствовал, а дорогу торил ко престолу…
– Да как же подменить-то человека, Юша? Это ведь не иголка. И игла игле рознь. А он был уже отроком.
– Подменила сама мать-царица да ближние… От того, когда якобы царевича зарезали, так царица-мать нет чтобы убиваться по младенцу, кинулась с поленом на мамку Василису Волохову, дабы убить ее. Мамка-то ближе всех видала настоящаго царевича и могла показать, что не его зарезали. И после, когда уже зарезанный отрок лежал в церкви и когда в церковь привели сына мамки, Осипа Волохова, царица закричала: «Вот убийца царевичев!» И его убили. Кто всех ближе знал царевича в лицо – тех всех побили, и некому уже было сказать, подлинной ли царевич лежит в церкви.
– Дивно, дивно дело сие… – заметил Треня. – Точно в сказке.
– Да сказка сия ужаса исполнена, – сказал Отрепьев.
– Ну, так как же объявился он Вишневецкому-то?
– Случаем, говорю. От панов Гойских перешел он в Брагин, на службу к князю Вишневецкому. А я его не покидал из виду: он в Гощу и я в Гощу; он в Брагин и я в Брагин… И приключися ему тамо болезнь тяжкая… И призвал он к себе отца духовнаго для напутствия в загробную жизнь. И по исповеди говорит оному священнику: «Аще Господь пошлет мне смерть ныне, завещаю тебе, отче, похоронить меня с честию, како детей царских погребают». И вопроси его иерей: «Что есть сие?» «Не открою ти тайны, – отвеща, – дондеже жив: тако Богу угодно. Егда же умру, возьми Писание под изголовьем у меня – и тогда познаешь, кто я». Ужасеся священник и поведа о том князю. Князь же взем Писание, прочитал в оном, что лежащий пред ним неведомый человек есть сын царя Московского, Ивана Васильевича, Димитрий…
– Те-те-те! Он де вони, бисови москали, шепчутся! – раздался вдруг голос запорожца.
Перед ними стоял знакомый уже нам казак, заломив шапку и фертом упершись в боки.
– Якого вы тут гаспида шушукаете?
– О царевиче Димитрии я ему повестую, – отвечал Отрепьев.
– Я так и знав. От народец! Що москали, що ляхи – одна пара чобит, да й те стоптанных. Як двое зийдутся докупы, так зараз про свое: один про свою вольность – як им вольна хлопа бити, а москали – зараз про царив: коли нема в их царя, то хоть выдумают себи або намалюют.
Треня засмеялся.
– Не смейся, Тренюшка, – серьезно сказал Отрепьев, – он только шутит. Малороссийские люди – все великие скомрахи.
– Хто мы, кажешь? – спросил запорожец.
– Скомрахи – веселый народ сиречь. А все Запорожское низовое войско уж обещало стать под стяг царевича Димитрия, и его вот прислало со мной к войску Донскому – просить и донцов стать заедино.
– Ще ж, и станемо! И нам и подончикам – все одно: кого ни бить, абы бить, та чужи капшуки трусить – хочь то московськи, хочь то турецьки, хочь то й лядьски…
А за боярышником кто-то притоптывал, выгаркивал, выговаривал:
На Иванушке чапан,Черт мочалами тачал…Вечерело. Летняя ночь начинала спускаться и над Доном, и над станицей, около которой казаки расположились табором в ожидании похода. Это была Усть-Медведицкая станица. Раскинувшись небольшими куренями по полугорью, она спускалась к песчаной отмели, на которой казачата каждый день устраивали ристалища, гоняя коней своих отцов и дедов на водопой. Левым крылом станица всходила на обрывистый, каменистый берег, такой высокий, что, когда казачата сталкивали с вершины его камень, то, скатываясь и колотясь о другие камни, он увлекал за собою массы плитняку, который с грохотом и прыгал в Дон, словно стадо диких коз. За Доном зеленелся лес. Вправо от станицы песчаная отмель суживалась в узкий рукав, называемый Каптюгом, по которому весною шумно бурлил Дон, образуя за Каптюгом особый живописный, покрытый серебристыми тополями остров.
Эх ты, остров зеленый, островок песчаный! Исходили, истоптали тебя казацкие ноженьки, поливали тебя, словно дождичком, девичие слезыньки. Оттого на тебе, островок песчаный, и травынька-муравынька не вырастывала, не всходила, что тебя, островок песчаный, горючьми слезами красны девицы кропили. На тебе, островок зеленый, красны девицы с казаками-соколами совыкались-целовались, на тебе ли, островок зеленый, и навеки с ними расставались!
На этом Каитюжном острове, под развесистым тополем, и сидел Треня с Отрепьевым, когда к ним подошел запорожец.
– Подождем, что скажет атаман Корела, – говорил Треня. – Он должен скоро быть со своим войском. А коли и он во едину думу с Заруцким станет, так тогда и на Москву пойдем… Только все что-то сердечушко веры не дает.
– Чему? – спросил Отрепьев.
– Да тому, что моим глазынькам повидать вновь золотые маковки, моим ноженькам ступать по тем по дороженькам, где мы с тобой, Юша, малыми ребятками хаживали, беды-горюшка не знавывали.
– Та же ж у вас, у Москви, кажуть, погано, холодно, – протестовал запорожец, который так любил свое южное солнышко. – Там, у вас, кажуть, и черешня не расте.
– Зато рябинушка кудрявая растет, белая березынька листочками шумит, бор зеленый разговоры говорит… Эх! Помнишь, Юша, как мы за грибами хаживали, белую березыньку заламливали?
– Помню.
– А помнишь, как Мефодия Патарийскаго читывали, как он о гогах и магогах повествует, что Александр Македонский в горы заклепал?
– Как не помнить? Еще ты все хотел Александром Македонским быть, дабы Годунова, аки царя Персидского, в полон взять да на прекрасной его Ксении жениться.
– Эх, Ксенюшка, Ксенюшка! Высоко ты, птичка-перепелочка, гнездо свила! Не залететь туда ясну соколу… Вот и теперь, как вспомню эти косы трубчаты, что трубами по плечам лежат, эти бровушки союзные, соболиные… я ведь видал ее на переходах… Как вспомню все это, так и свет божий не мил становится.
Он тряхнул своими русыми кудрями и гордо закинул голову.
– Оттого и на Дон больше ушел.
– Се б то од дивчины? От сором! – вмешался запорожец. – Та я б и вкрав, бут вона хочь царская дочь.
– Да она ж и есть царская дочь.
– Ну и вкрав бы…
– Руки, брат, коротки.
– Овва! У мене руки довги… та от як будемо у Москви, то я ии, трубокосу, и вкраду-таки… Ось побачете.
– Куда тебе, хохол эдакой!
– А все ж таки вкраду.
Отрепьев не вмешивался в этот спор. Его другое что-то занимало. «И поведу народ мой на агаряны, и изгоню их из земли Твоей в землю агарянскую, из Цариграда и из Иерусалима изгоню их», – шептал он в задумчивости.
– Ты что, Юша, шепчешь? Али Настеньку Романову вспоминаешь:
Эх ты, Настенька, Настенька,Походочка частенька, частенька.Сильно подействовали эти слова на Отрепьева. Он как-то растерянно и с укором посмотрел на своего товарища…
– Что, али забыл Настеньку Романову – «грудь высоку, глаза с поволокой, щечки аленьки, черевички маленьки?..» Али забыл ее «длинны косыньки плетены, рукава строчены, шейку лебедину, голос соловьиный?..» Забыл, запамятовал, Юша? – приставал неугомонный Треня.
Отрепьев молчал, упорно глядя в темную даль, все более и более закутываемую дымкою ночи.
Забыл Настеньку?
– Се московка така? Хиба ж у москалив гарни дивчата? – подсмеивался запорожец.
– Почище ваших черномазых, – даже не обернулся к нему Треня. – Ну, так что ж «Настенька – походочка частенька»? – допытывался он у товарища.
– Пропала Настенька, все Романовы пропали…[1] – как бы нехотя отвечал Отрепьев. – Всех Годунов позасылал туда, куда и ворон костей не занашивал. Нету уж боле на Москве старшего из Романовых – Федора Никитича, не видать его шапки горлатной, не скрипят по Кремлю его сапожки – золот сафьян, не блестит на Красной площади его платье золотное… Старцем Филаретом стал Федор-от Никитич, во келейке сидит он во темной; замест шапки – клобук иноческий, а золотно платье – черна ряса дерюжная…
– Что ты?..
– Истинно говорю. А и семью его, аки волк овечек, распушил Борис: Ксению Ивановну в Заонежье, на Егорьев погост, малых детушек – Мишеньку с сестрицей – на Белоозеро. А и богатыря Михайлу Никитича в Чердынь заточил, железами заковал. Александра Никитича – к Белому морюшку самому, Василья Никитича – в Целым… Нету боле Романовых – исчезоша, аки прах, возметаемый ветром.
– А их Настенька?..
Отрепьев не отвечал, подавленный воспоминаниями. Где-то щелкал соловей над гнездом своей возлюбленной, меж водяными порослями заливались лягушки, празднуя свой медовый месяц…
– Что ж он, избесился, что ли, Бориска-то? – спросил Треня.
– Да чует волк, что по шкуру его скоро придут, он и лютует… Царевича ищет – нюхом чует, что не царскую-то кровь в Угличе пролили, а царская-то кровушка по белу свету бродит, спокою волку не дает.
– Бедная Ксенюшка! Жаль ее, что от такого-то батюшки-аспида родилась, – пожалел вдруг товарищ Отрепьева дочь нынешнего царя.
– А яки се Романовы таки? Москали ж? – любопытствовал запорожец.
– Родичи старых московских царей… Ну, вот тут и иди на Бориса, коли у него такая дочушка… Руки не поднимутся, – говорил Треня.
– Тю-тю, дурный! Так ты его вбий, а дивчинку озьми соби, коли я ий не озьму, – советовал запорожец.
Опять все замолчали. Только соловей пощелкивал своим маленьким горлышком да лягушки радовались, словно бы на долю их выпало великое счастие. Да оно и правда: счастье неведения – великое счастье, хоть и жалко оно для ведающих…
Тихо. Всех окутала ночь. Всех взяла дума раздумчивая, даже запорожцу что-то вспомнилось… И не сразу услышали они чьи-то шаги и шепот:
– Ластушка моя… лебедушка белая… постой…
– Ох, Ванюшка… страшно мне… пусти…
Да, слышится вблизи где-то шепот: два голоса – мужской и женский.
– Золотцо мое червонное… жемчужинка моя перекатная… жди меня… дай мне с Москвы повернуться…
– Ох, Ваня… Ванюшка… соколик…
Треня вздрогнул, прислушиваясь. Шепот смолк. Слышны были неясные звуки, словно бы сыпалось просо на просо…
– Это Заруцков! Его голос. С кем он там?..
III. Пророчество старого Заруцкого
На другой день в Усть-Медведицу пришли вести, что Корела, возвращаясь с войском из ногайских улусов, куда он ходил для наказания ногаев за нападение на Черкасск, находится уже в небольшом расстоянии от Усть-Медведицы. Слышно было, что Корела идет с большою добычею.
И станица, и табор казацкий оживились. На майдане, у станичной избы, где обыкновенно собирается казацкий круг, толкались и старые станичники, и походные казаки, и «выростки», и «малолетки». Казачки бродили с детьми – грудными на руках и с целыми стаями у подолов. На лицах ожидание и беспокойство: кто-то воротится жив-здоров с золотой казной, с добычею? О ком принесут весточку черную, слово мертвое? Девушки убраны, принаряжены: либо мил сердечный друг со походного седелечка глазком накинет соколиным, либо девичьим глазынькам по милом дружке плакати…
Тут же бурлит и юное поколение будущих девичьих зазнобушек. Греется на солнышке и ветхая, столетняя старость. Концы и начала двух столетий сошлись на майдане посмотреть друг на друга: прошлое столетие едва ползает от старости, новое столетие едва ползает от младости. Отцы и дети – посередине майдана: это деятели, это их место. Деды и бабушки с внучками и правнучками – по краям майдана: это деятели, или бывшие, или будущие.
Ветхий, матерой, столетний атаманушка Заруцкий, или попросту «дедушка Зарука», дед атамана Ивашки Заруцкого, сидит на солнышке, на завалинке станичной избы, и с любовью смотрит на молодых казаков, шумящих на майдане. Все сыновья его полегли в поле, остались только внуки. А любимый внучек, молокосос Иванушка, уж и в атаманье попал – из молодых, да ранний.
Вокруг старого Заруки – свой майдан. Целая орава ребятишек окружает дедушку и слушает его россказни о допрежних боях… Светятся молодостью столетние очи дедушки, только голова дрожит и рученьки старые дрожат у рассказчика. Да и не диво: эко сколько эта седая голова на своем веку видов видывала от Азовушка-града турецкого до самой Сибирушки! А сколько этой седой головушкой было продумано, прогадано! Не диво, что и стары рученьки дрожат; эко сколько этими рученьками помахано, головушек вражьих покошено, острою пикою сколько ребер-грудей прободено, ко сырой земле телушек пригвождено, на тот свет сколько душенек отправлено!
– Эх ты, Сибирушка студена, Сибирь-матушка! Разнесла ты, Сибирушка, казацкую славушку по своей земле, во все концы конечные! Разлеглося от той казацкой славушки Московское царство-государство промеж четырех морей, и нету ему удержу-супротивины. Вспучило Москву от той славушки казацкой, разнесло Московское царствие от Сибирушки – и забыла Москва святу правдушку, надругается она над казацкой славушкой, называет казаков ворами-разбойниками. А мы не воры, не разбойники… – говорит старый Зарука.
Сверкают юные глазки его слушателей – огонь в них дедушка забрасывает, и искрами брызжет огонь этот из разгоревшихся глаз казачат.
– А ты, дедушка, расскажи, как вы Сибирь брали, сибирского царя громили, – звенит своим металлическим голоском шустрый внучек Захарушка, младший братенек Ивашки Заруцкого.
– Ах ты, востроглазый! Все ему расскажи да расскажи. А который раз-от я тебе рассказываю? А, поди сотый?
– Нету, дедушка родненький, не в сотый…
– Дедушка, болезненький, хорошенький, расскажи, – звенели другие детские голоса.
– Цыц, воробьи вы эдакие! Ин уж так и быть – расскажу.
И старик налаживается: белая голова поднимается, зрачки расширены – глядит куда-то вдаль, в старину, в глубь прошлого…
– Эх, и похожено было, поброжено, Волгой-матушкой поплавало, на Камушке-реке да на Обе-реке погуляно, татаровям в гнезде их самом за все зло на святой Руси отплачено… Идет это станица атаманушки Ермака Тимофеевича, идет не шарахнется, а Кучумово-от войско что темный бор надвигается. Зазвенели тетивушки певчие, засвистали стрелы каленые – и бысть бой великий… Где Ермак махнет – там и улица, а Кольцо махнет – переулок, а Зарука бьет, словно пашну жнет.
– Это ты, дедушка? – не терпится Захарушке.
– Я, соколик… Постой, дай припомнить… Сбил ты меня, дьяволенок…
– Не буду, дедушка.
Старик опять налаживается на лиризм. Казачата замерли на месте – глаз с него не спускают. А на майдане шумные возгласы: «Любо! Дело говорит Заруцков!» – «За царевича Димитрия, атаманы-молодцы, постоим! За веру!» – «Любо! Любо!»
– Ишь Иванушка короводит, – улыбается старик. – В меня пошел: в кипятке маленькаго купывали, кипяток и вышел…
– А ты, ну, дедушка, рассказывай!..
Старик задумывается. Беззубый рот что-то беззвучно шамкает. Лицо мало-помалу туманится, и из старческой груди вырываются хриплые, плачущие причитанья:
Эх, и высоко звезда восходила, выше лесу, выше темнова, выше садику зеленова! Эх ты, звезда наша, казацкая славушка, атаманушка ты наш, Ермак Тимофеевич! Высоко ты, сокол, залетывал, выше куреня Кучумова, что повыше улуса Алеева! И скатилася наша звезда полуночная, скатилася наша славушка в Иртыш-реку глубокую… Не стало у нас атаманушки, не стало Ермака Тимофеевича, разбрелось наше войско хороброе. Остался один я, сиротинушка…
Старик плакал – тихо-тихо, как ребенок. Оплакивалась жизнь, оплакивалась молодость, хоронилась пережитая, закатившаяся славушка…
Казачата робко смотрят на старика. Иные всхлипывают.
– Дедушка, не плачь, не плачь, родненький! – молится Захарушка, припадая к сивой, поникшей голове.
А на майдане шум, говор. Особливо звучит здоровый голос кудрявого длинноусого Трени:
– Атаманы-молодцы, помолчите! Гришка Отрепьев говорит! Григорий Богданов сын Отрепьев от московского царевича Димитрия речь держит! Помолчите, атаманы-молодцы!
– И буде сподобит его Господь Бог на прародительском царстве сесть и скифетро московское восприять, и он, царевич, вас, донских казаков, не оставит – великим жалованьем пожалует. А буде он, царевич, то московское скифетро закрепит за собой и родом своим сызнова и дает он зарок великий – со всем своим царством и с донскими и запорожскими казаками идти на проклятые агаряны, сиречь на турецких людей, войною, боем великим, и из Царяграда агарян высечи и из Иерусалима-града высечи тако ж, – нараспев, несколько надтреснутым голосом взывает Отрепьев.
– Любо ль, атаманы-молодцы? – гудит молодой баритон Ивашки Заруцкого.
– Любо! Любо! – дрожит майдан.
– Не любо! Не хотим! – отзываются другие голоса.
– Любо! Любо! – перекрикивает майдан.
– Почто не любо? – зычит Ивашка Заруцкий.
– Любо! Любо!.. Разнесем!.. Долой Бориса!.. За Димитрия постоим!.. Любо! Стоим! – Голоса стоном стонут. Майдан превращается в одну громадную глотку – разгорается народная буря…
Но в это время от группы детей отделяется массивная, хотя и согбенная фигура столетнего старца Заруки. Опираясь на плечо внучка, он входит на середину майдана и стучит костылем о сухую землю.
– Стойте, детушки! Послушайте вы меня, казака старого, матерова! – заговорил он, сверкая глазами.
Все с изумлением смотрят на старика. Он стоит среди майдана, опираясь дрожащею рукою на курчавую головку Захарушки. В этой согбенной фигуре, в этой белой, как кипень, голове с развевающимися по ветру прядями волос, в этих старых, заплаканных глазах так много величия, что буря мгновенно утихает…
– Послушайте, детушки! – продолжает старик дрожащим голосом. – Повнемлите моему смертному наказу!
Потом, протянув руку по направлению к Дону, синяя поверхность которого виднелась за отмелью, старый ермаковец начинает медленно причитать, словно по писаному:
– Эх ты, Дон-Донина, тихой Дон Иванович! Повнемли ты моему наказу смертному. Немало я пожил с тобою, тихой Донушка, немало и Волгой-рекой хаживал, и Камой-рекой плавывал, и в Сибирушке студеной бывал, – немало пожито, немало продумано-погадано. Родился ты, Дон Иванович, в Московской земле, и поят-кормят тебя московские реченьки, и детки твои, донские храбрые казаченьки, – все тоей же Московской земли детушки, – ин быть тебе, тихой Дон Иванович, со Московскою землею заодно!
– Любо! Любо! – гудит майдан.
– Дедушка Зарука дело говорит: заодно с Москвою!
– Заодно! Заодно!
Старик поднял клюку, как бы требуя снова внимания. Голоса умолкли.
– Много пожито мною, много думано, детушки! – продолжал старик, глядя куда-то вдаль, как бы заглядывая в будущее. – И видят мои старые очи то, чего не видят ваши молодые. Жить Москве вековечно, до скончания света, а тихому Дону Ивановичу служить своей матушке – Московской земле верой и правдой тако ж вечно. Таков мой наказ, детушки, и таково мое благословение. А будет перечить Дон Москве – ин не будь над ним мое благословение.
– Аминь! Аминь! Аминь! – громко произнес Отрепьев. – Пророческое сие слово, атаманы-молодцы, пророческое: будет Дон заодно, постоит с Москвою, и будет чрез то Дон силен и славен, и какова слава будет Москве, такова и Дону, и какова честь Дону, такова и Москве.
– Так-так, – подтвердил старый Зарука, – таково и мое благословение… А теперь прощайте, детушки… Мне с майдану пора в могилу…
Дальше он не мог говорить – ему изменили силы, ноги, голос…
– Ой, батюшки! Дедушка падает, – с испугом закричал Захарушка, силясь поддержать старика.
Но было уже поздно: дряблое старое тело, как сноп, свалилось на землю, на майдан, по которому когда-то бодро ступали крепкие ноги Заруки.
Старика подняли и повели. Майдан продолжал шуметь, тысячи глоток рычали разом:
– Подождемте, братцы, атамана Корелу, да с ним и в поход.
Казачата также взволновались – общее возбуждение перешло и на них. Когда дедушку Заруку увели в курень, ребятишки подняли шум и визг невообразимый…
– Пойдемте в поход, атаманы-молодцы! – звонко кричал белокурый мальчик, босиком и в казацкой шапке, гордо изображавший из себя атамана.
– Любо! Любо!
– А кого, братцы, в атаманы хотите? – звенит тот же белокурый казачонок.
– Лаверку Баловня хотим! – раздаются детские голоса.
– Любо! Лаверку Баловня!
– Не любо! Не хотим, – возражают другие. – Подавайте нам Захарку Заруцкова!
– Любо! Любо! Захарку Заруцкова волим!
Последние пересилили. Когда Захарушка, проводив деда, вышел из куреня вместе со старшим братом своим – Иваном, толпа ребятишек бросилась к нему и, подавая чекмарь, кричала на разные голоса:
– Вот тебе булава! Вот тебе атаманская насека! Будь нашим атаманом…
Захарушка радостно, но с напускною важностью взял поднесенную ему палку, кланялся на все четыре стороны и говорил торопливо:
– Спасибо, атаманы-молодцы, за честь! Я не стою…
– Бери, коли дают! Войско дает! Любо! Войска слушайся! – волнуются детские голоса.
– Ах вы, пострелята, мразь эдакая, клопы, а тоже войском себя называют, – смеется Иван Заруцкий.
В поход! На конь, атаманы-молодцы, на конь!
И толпа сорванцов с гордо поднятыми головами, с криком, визгом и гиком, подражая большим, оставила майдан и хлынула из станицы на черкасскую дорогу. Самому солнцу, наверное, отрадно смотреть на эту молодую беззаботность, которая не имеет за плечами прошлого, на спину которой не налегла еще тяжесть годов, а на памяти, как на кладбище, не покоятся еще дорогие покойники…
Черкасская дорога проложена между рощами дикорастущих яблонь, груш, вишенников, боярышников, шиповников, терновников и всяких колючих растений, всхолмленное побережье прорыто глубокими оврагами. И рощи, и прогалины, и холмы, и песчаные внизу косы Дона полны жизни, которая неумолкаемо сказывается в птичьем говоре, писке, треске и тысячеголосом щебетанье, в свисте сусликов и сурков, оберегающих свои норки и маленькие трущобинки, в жужжанье и гуденье всего летающего, ползающего, скачущего…
Прежде всего буйная ватага казачат делает набег на сусликов, а также и на тарантулов, норки которых нередко чернелись рядом с сусличьими норами.
Стремглав спустившись в глубокий овраг, по которому звенел ручей холодной родниковой воды, – наполняют водою кто свои сапоги, кто шапки – и взобравшись снова на кручи, выливают воду в сусликовые и тарантуловые норы…
Напуганные водою суслики выскакивают из нор и погибают под ударами юных разбойников.
– Бей-руби! – кричит Лаверка, резвое личико которого раскраснелось, глаза горят, доказывая, что из ребенка вырабатывается образцовый хищник.
И неповоротливые, мохнатые тарантулы выползают из нор. Казачата дразнят их, трогая палками. Отвратительные пауки злятся, поднимаются на мохнатых лапках – и погибают, как и суслики.
На деревьях, в кустах, в оврагах – везде мелькают казачата: это они достают из гнезд птичьи яички и наполняют ими свои шапки.
– Эй, атаманы-молодцы, посмотрите! – кричит с высокого дуба Захарушка Заруцкий. – Я громлю престол московского царя Бориса Годунова.
Все бросились к дубу. На вершине его чернелось огромное орлиное гнездо. Обхватив босыми ногами одну из ветвей, поддерживавших гнездо, и придерживаясь рукою за сук, торчавший выше гнезда, смельчак Захарушка другою рукою вытаскивал из гнезда молодых орлят.
– Вот вам царевич Федор Годунов! Ловите!
И молодой неоперившийся орленок падает на землю и убивается.
– Вот вам царевна Ксения Годунова…
И другой орленок также падает мертвым.
Но в это время в воздухе что-то зашумело. Все оглянулись… Над дубом, распустив саженные крылья, вился громадный орел. Сделав взмах кверху, он молнией прорезал воздух и камнем упал на гнездо. Послышался крик, и все вздрогнули: когти орла вцепились в курчавую голову Захарушки и подняли его на воздух. Ужас оковал юных хищников – они так и окаменели на месте…
Но мягкие волосы не выдержали тяжести тела: оно упало на землю и лежало теперь мертвое, неподвижное.