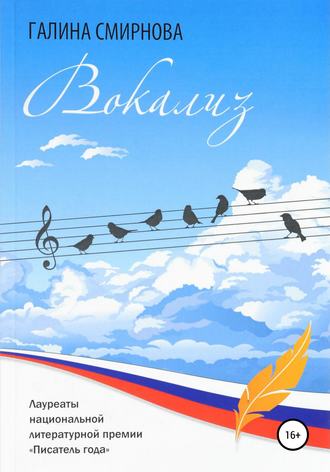 полная версия
полная версияВокализ
Счастье
Никто не помнил прежнего названия бульвара, широкий и просторный, он был застроен двухэтажными каменными домами прошлого века, одни из которых были желтоватые или слегка зеленоватые, другие белые, как кусок сахара или мела, но все они содержались в чистоте и порядке. На тротуаре вдоль домов вы не смогли бы увидеть ни окурка, ни бумажки, хотя он был далеко не новый, и даже наоборот, весь в трещинах, больших и длинных, или коротких и запутанных, которые почему-то нравились жителям городка, особенно детям, все они норовили обязательно переступить через них, это была такая весёлая игра, забава.
Около домов росли огромные платаны с серой, отслаивающейся корой на мощных, как колонны, стволах, они уносили свою пышную крону в далёкую высь, и где-то там, в облаках, их ветви переплетались так, что не разъединить, и получался зелёный туннель из ветвей и листьев, сквозь который пробивалось жаркое южное солнце, и тогда тени больших резных листьев ложились на бульвар. Осенью листья красиво желтели, шуршали под ногами вместе с опавшими плодами, которые незнающие приезжие принимали за каштаны.
Плоды платанов мягко падали на землю, ударялись о крыши домов подобно удару теннисного мяча, к этим звукам привыкли, без них жизнь потускнела бы, будто исчезла яркая нота в песне городка.
Может быть, когда-то бульвар назывался Южный или Портовый, или именем славного революционера, жители забыли, и все называли его просто Счастье… и даже слова бульвар не добавляли. Так и говорили:
– Мы идём к Счастью.
Или:
– Встречаемся на Счастье.
После этих слов люди тихо, незаметно улыбались… всё-таки слова обязывают.
Вдоль бульвара, отгороженного от проезжей части невысоким металлическим забором, была проложена аллея, засаженная жасмином, и как же благоуханна, как волшебна была здесь цветущая весна. Около забора стояли старые фонари с облезлой краской, но жители почему-то не торопились их подкрасить – один, другой подойдёт, постоит и вспомнит по зарубкам то, что знает только он и, может быть, она, и вздохнёт тяжко – эх, жизнь…
Некоторые фонари по вечерам частенько не горели, чему несказанно радовались влюблённые, допоздна сидящие здесь на скамейках.
По бульвару почти не ездили машины – он вёл в сквер, за которым начиналось море, но зато неспешно дребезжал трамвайчик, долго стоял на остановках и весело трезвонил. Он делал круг, останавливался около сквера, вожатая выходила передохнуть, выпить чашку чая или кофе, и снова… Счастье.
Днём на трамвайчике подъезжали жители близлежащих домов, которые очень торопились, потому что пройтись по бульвару, подышать запахом моря, платанов, смешанным с тонким, нежным ароматом жасмина…
Ну разве это не счастье?
Сквер в конце бульвара причудливым образом был окружён высокими каштанами с обычными белыми и с редкими, розовыми соцветиями, и когда они цвели на фоне южного неба, утреннего, лимонно-оранжевого или вечернего, пылающего фиолетово-алым пожаром, невозможно было глаз отвести от этой неземной красоты, будто занесённой именно сюда пришельцами с далёкой Альфа Центавры.
Сквер был небольшой, посреди него стояла большая песочница, а вокруг шесть скамеек. Одну из скамеек заняли две бабушки – женщины среднего возраста, их малыши увлеченно копошились в песке, изготовляя куличики, а потом разрушая их и снова строя что-то важное. наблюдали за ними и оживлённо переговаривались, потом спохватывались, доставали салфетки, отмывали своё чумазое чудо, давали попить водички или предлагали яблочко. Отдохнув и отмывшись, оба чуда, один светленький, а другой ярко-рыжий, брали машинки на верёвочке и дружно ходили друг за другом вокруг песочницы, громко лопоча что-то и прекрасно понимая друг друга.
Слева от женщин расположились юные Ромео и Джульетта, они целовались, тесно прижавшись друг к другу, или сидели затихшие, задумчивые, молчаливые.
На скамейке справа сидел мужчина, закрытый развёрнутой газетой, из-под которой торчали только вытянутые ноги без носков, в дырявых шлёпанцах и потрёпанных джинсах, газета плавно поднималась то вверх, то вниз, слышалось ровное дыхание.
Напротив уснувшего читателя села девушка в интересном положении, на вид ей было лет двадцать, вначале она с любопытством разглядывала малышей, потом скрестила руки поверх своего животика, и вскоре её отрешённый взгляд опрокинулся куда-то далеко, вглубь себя.
– Господи, как икона «Умиление», – сказали почти одновременно женщины.
Солнечные блики играли повсюду, тени листьев уносились ветром, гуляли на лицах прохожих, опускались и танцевали на асфальте, готовые вновь сорваться и улететь. С моря дул лёгкий ветерок, и где-то рядом тренькал трамвайный звонок. Это был только сон…
Дом Гоголя
Москва, Никитский бульвар, дом 7 А… когда мы идём по этому адресу, мы идём к Гоголю.
В этом нарядном старинном двухэтажном особняке великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь жил последние четыре года, здесь он работал, встречался с друзьями и здесь случилось страшное – в этом доме, за десять дней до смерти он сжёг второй том «Мёртвых душ».
Центральная парадная лестница делит особняк, принадлежащий графу Толстому, на две части, Гоголь занимал первый этаж, его покои находились в правой половине. Небольшая прихожая – высокие потолки, светло-голубые стены и такие же шторы на окнах, печь, выложенная белой плиткой, большой деревянный сундук с книгами писателя, изданными при его жизни, вешалка, на которой висит цилиндр и, конечно же, шинель. Я тихонько дотрагиваюсь до шинели – плотная ткань чёрного цвета, кажется, что очень тёплая.
Высокие белые двери открываются в гостиную – стены интенсивного синего цвета, шторы на окнах и дверях тоже синие, старинная мебель тёмного благородного дерева, обитая тканью абрикосового цвета с тканым рисунком, она называется штоф, я помню это слово из книг. Диваны, кресла, стол, трюмо с высоким зеркалом, икона Богородицы, фотографии Италии, Святой земли – тех мест, где был Гоголь.
Но вот… вот особое место – камин, в котором сгорела рукопись Гоголя, перед камином стоит кресло. Почему Гоголь сжёг рукопись второго тома «Мёртвых душ», почему произошла эта безумная трагедия, почему рядом не оказалось никого, никого, кто остановил бы его? Мы не узнаем этого уже никогда.
И всё-таки большинство исследователей пишут о роковой случайности – Гоголь именно перепутал, сжёг не то, что хотел, об этом утром он сказал графу Толстому. Ещё одна тоже фатальная случайность – граф Толстой накануне отказался передать портфель с рукописями Митрополиту Филарету, как просил Гоголь. Если бы не этот отказ, всё, наверное, было бы по-другому.
Но случилось то, что случилось. Долго стою напротив камина, трудно представить то адское пламя, в котором Гоголь дерзнул сжечь труд пяти лет своей жизни, своё вдохновение, свои надежды. Стрелки часов на камине остановились навсегда, они показывают три часа ночи – в это время горела рукопись «Мёртвых душ».
Из гостиной двойные белые двери открываются в кабинет, выкрашенный в нежный светло-бирюзовый цвет, и шторы на окнах тоже бирюзовые. Почему в жилых покоях Гоголя были выбраны именно эти цвета – от нежно-голубого, бирюзового до тёмно-синего? Синий цвет – цвет Богородицы, заступницы России, может быть, это ответ? Гоголь был великим молитвенником, богомольцем о России.
Книжный шкаф, диван, стол, бюро, за которым работал писатель, он писал стоя, писал мелким, красивым, почти каллиграфическим почерком, на бюро – портрет Пушкина в рамке. Здесь же в кабинете кровать Гоголя за ширмой, рядом кресло. Последние месяцы Гоголь не мог спать лёжа, спал сидя в кресле, и ещё он постоянно замерзал, ему было всё время холодно.
На стенах кабинета иконы, фотографии Оптинских старцев. Гоголь трижды был в Оптиной пустыни, его тянуло в этот монастырь, он хотел быть монахом, не смог, давил долг и великий талант писателя, отпущенный Богом, и это противоречие – быть монахом или быть писателем терзало его душу всю жизнь.
На левой половине первого этажа находится комната памяти – светло-сиреневые стены, шторы, узкий старинный диван, рядом на столике – посмертная маска Гоголя.
«Как сладко умирать», – последние слова великого писателя, сказанные в сознании.
Зал «Ревизор» и зал «Воплощений» тоже на первом этаже, здесь можно увидеть чудесные инсталляции, посвящённые произведениям Гоголя.
В зале «Воплощений» стайка школьников выстроилась в ряд к большой тетради, куда пишут отзывы о Доме Гоголя, встала и я в очередь, а прежде чем писать самой, взглянула на то, что пишет молодёжь: «Здорово!», «Круто! Спасибо!», «Очень понравилось, спасибо, придём ещё!» Написала и я слова благодарности замечательному музею – Дому Гоголя.
Выхожу из музея и долго стою перед памятником Гоголю скульптора Андреева. Голова писателя склонилась, плечи опущены, взгляд тяжёлый и скорбный, как будто большая раненая птица хочет спрятаться в складках плаща то ли от холода, то ли от всего мира.
На улице солнечно, лёгкий мороз и мелкий искрящийся снег, снег лёг на плечи, спину Гоголя, словно пытаясь согреть его. Иду через Арбатскую площадь к началу Гоголевского бульвара, где стоит памятник Гоголю скульптора Томского. Вот так удивительно получилось, что в центре Москвы, с разных сторон Арбатской площади, на расстоянии не более четырёхсот метров друг от друга стоят два совершенно разных памятника одному человеку – Гоголю.
И я вижу совсем другого Гоголя – успешного, уверенного, стоящего на высоком пьедестале, он смотрит на меня и чуть заметно улыбается. Я давно не была здесь, забыла эту тихую улыбку, и она так нравится мне, и мне нравится, что Гоголь улыбается! Улыбаюсь и я, глядя на него. Позади памятника – заснеженный Гоголевский бульвар, ведущий прямо к метро, напротив которого Храм Христа Спасителя. Памятник Гоголю и Храм Христа Спасителя – почти напротив, а разве могло быть иначе!
У метро молодая женщина в полушубке, цветастом платке и брюках, синеглазая, чернобровая, румяная, ну вылитая панночка с хутора близ Диканьки, только поменять брюки на юбку, продаёт букеты багульника – на длинных голых ветках мелкие листики и редкие, сиреневые цветы, похожие на диковинных бабочек в снежной Москве…
Мандарин
Оранжевый мандарин катился по тропинке, идущей вдоль шоссе. Минуту назад его подбрасывала вверх, ловила неловко, роняла на землю, поднимала, смеялась и снова подбрасывала девочка лет шести, в синих шортах, белой футболке и косынке, из-под которой торчали в разные стороны русые косички. За ней шла её мама, молодая женщина в длинном лёгком платье и шляпке из льна.
– Катя, прекрати, дорога недалеко, – требовательно сказала она.
Но, упав на сей раз, мандарин, как колобок из сказки, покатился туда, куда захотел, а именно к широкой канаве, расположенной между шоссе и тропинкой, где вскоре и скрылся благополучно. Девочка подошла, посмотрела на бурно разросшийся в канаве лопух и развела руками:
– Всё, нет мандарина, – сказала она маме, которая взяла дочку за руку, и они быстро пошли к машине, стоящей впереди, на обочине, рядом с небольшим придорожным магазинчиком, из которого вышел молодой мужчина со свёртками. Девочка подбежала к нему, с любопытством заглянула в пакеты, потом забралась на заднее сиденье, спереди сели родители, и машина тронулась с места.
За этой сценой наблюдала Наташа, хрупкая невысокая женщина в тёмном платье, которая медленно, прихрамывая на одну ногу, шла позади мамы с дочкой. Около рябины она остановилась, подняла с земли сухую тонкую и довольно длинную ветку и с её помощью стала раздвигать в канаве тёмно-зелёные, похожие на большие тарелки листья лопуха.
Вот мелькнуло что-то яркое, Наташа подтянула, подтащила к себе и подняла большой спелый мандарин.
Она отряхнула его от земли и посмотрела пристально, сильный цитрусовый запах шёл от этого оранжевого беглеца-колобка, лицо Наташи побледнело, губы задрожали. Она положила мандарин в сумочку и направилась к придорожному магазину.
Под Новый год Наташа и Виталий ставили дома большую ёлку, к запаху мороза и еловой смолы присоединялся аромат мандаринов, шоколадных конфет, свежей сдобной выпечки и ещё чего-то очень вкусного, особенного, что готовилось только в этот праздник. В доме царила суета, волнение и ожидание того хорошего, радостного и настоящего, что виделось в будущем, и на что надеялся каждый сейчас, и в прошлом году, и всегда.
На ёлку вешали мандарины, это была традиция. Мандарины Наташа обматывала крепкой ниткой крест-накрест и ещё крест-накрест, получалась как бы плетёная корзиночка, сверху она делала петельку и потом уже вешала мандарины на нижние ветки ёлки, которые были покрепче. Когда Сонечка подросла, то стала помогать маме, она особенно любила наряжать мандарины в фольгу, и тогда на еловых ветках рядом с оранжевыми красовались необыкновенные серебряные шары с мандариновым запахом.
– Мамочка, можно я пирожок возьму? – спросила Соня тогда, в тот Новый год.
– Потерпи, мой ангел, скоро за стол сядем.
– Ты редко такие пирожки делаешь.
«Правда, редко, – подумала Наташа. – Уж очень хлопотная начинка – тыква, антоновка, корица, цедра лимона, а тесто обязательно на опаре и сдобное, возишься с ним так долго».
Она посмотрела на лукавую мордашку:
– Ну, пойдём на кухню.
На большом нарядном подносе лежали румяные пирожки, с одной стороны сладкие, с тыквой и яблоками, сделанные в виде треугольников, а с другой с мясом и луком, обычной продолговатой формы. Наташа протянула дочке ещё тёплый пирожок.
– Вку-у-сно-о! – пропела Соня, уплетая пирожок за обе щёки.
А потом пришли гости, и были игры, песни, танцы, но, главное, были для детей подарки. Саше подарили радиоуправляемую пожарную машину, а Юле голубоглазую, с весёлыми рыжими конопушками куклу, Витя обрадовался клюшке с шайбой, а Соня… Соня получила то, что хотела больше всего – набор красок и кистей для рисования, и ещё бумагу и небольшой мольберт. Соню научил рисовать папа, когда ей было три годика, и с тех пор не было для неё ничего интереснее, чем изображать всё, что она видела или хотела видеть… по зелёной траве у неё бегали голубые и красные лошадки, а все лягушки были розовые или жёлтые, или любые, но обязательно в цветочек, горошек или даже в клетку и с короной на голове.
– Почему? – спрашивала мама.
– Они же царевны… царевны-лягушки, – отвечала задумчиво пятилетняя Сонечка.
Около магазина на земле сидела на какой-то тряпице смуглая черноволосая женщина, а рядом с ней мальчик около двух лет, малыш вертел в руках помятого плюшевого слонёнка. Наташа открыла кошелёк, положила в протянутую руку женщины купюру, а потом достала из сумки мандарин и спросила:
– Можно?
Получив утвердительный кивок мамы, дала ей мандарин, и через мгновение малыш, обливаясь соком и причмокивая от удовольствия, ел его. Домой Наташа возвращалась по той же тропинке, идущей вдоль канавы, заросшей лопухами, и ей всё виделись в густой тени их огромных листьев… оранжевые мандарины на еловой ветке.
Через три дня после Нового года Виталий с Сонечкой поехали в цирк. Почему именно на автобусе, почему именно в тот день, почему она, Наташа, не поехала вместе с ними… и почему, Милосердный, это произошло, почему, Господи, автобус на переезде столкнулся с электричкой… почему… почему среди погибших оказались её самые любимые и дорогие…
На похороны Наташу привезли на инвалидной коляске, после страшного известия она получила инсульт, не двигалась правая рука и нога. Она не могла плакать, не могла говорить, ни слёз, ни слов, как деревянный истукан. Потом было долгое лечение, инвалидность, вернулась речь, восстановилась рука, но осталась хромота, однако, это, кажется, совсем не смущало Наташу.
Она всё больше думала и думала, что плохо простилась с Сонечкой и Виталиком… не так погладила по голове, по щеке, груди, не так поцеловала, не так… и, главное, она не сказала им самых важных слов. И всё чаще ей казалось, что случившаяся беда просто жуткий, мучительный и непереносимый сон, и совсем скоро она проснётся, нужно только ещё немножко потерпеть.
Придя из магазина домой, Наташа прошла в свою комнату, села на кровать и взяла с тумбочки мандарин, ему было три года, это был мандарин из ушедшей жизни, с той, последней новогодней ёлки.
За годы мандарин высох как мумия, его кожура окаменела и превратилась в панцирь, и если вдруг он падал на пол, то раздавался звонкий звук разбитого стекла, из ярко-оранжевого он стал чуть желтоватым… и всё-таки ещё можно было уловить едва слышимый, будто угасающее эхо, мандариновый запах. Её лицо стало светлым и спокойным…
Алёшка – белый декабрист
Подоконник был широкий, старый, обшарпанный, с трещиной по всей длине, Алёшка сидел в уголке, поджав ноги, и отковыривал от него чешуйки почти стёртой белой краски. В противоположном углу на подоконнике стоял в поржавевшем ведёрке раскидистый большой цветок с плотными, тугими, изрезанными листьями-стеблями. Ведёрки менялись из года в год на большие по размеру, но почему-то на такие же потрёпанные, цветок рос, но никогда, ни разу не цвёл.
Алёшка слышал, что уборщица баба Поля называла его декабрист, но не понимал, почему так, а не ноябрист или октябрист, например. Он уже знал не только месяцы года, но умел считать, знал буквы и даже понемногу складывал из них слова, ему было пять лет. Алёша любил сидеть на подоконнике в раздевалке, отсюда видны были ворота и забор детского дома, была видна часть улицы со своей, незнакомой для него жизнью – машины, мамы с колясками, автобусы, пешеходы, дети, собачки на поводке.
Вдоль стен этой маленькой комнаты стояли узкие, окрашенные голубой краской шкафчики с приклеенными на них картинками фруктов – кому какой достался. Алёше достался зелёно-полосатый арбуз с отрезанным большим аккуратным ломтиком, который был в углу картинки, и всякий раз, когда Алёша открывал-закрывал свой шкафчик, он трогал этот спелый ломтик, как будто брал его в руки, чтобы съесть.
Напротив входной двери в раздевалке была сушилка, представляющая собой шкаф с дверцами, внутри которого стояла большая батарея, на ней и сушились детские вещи после прогулки. Алёша часто залезал в этот шкаф, садился на пол рядом с батареей – тепло, уютно, и играл с какой-нибудь игрушкой, он любил бывать один.
Алёшка прижался носом и губами к холодному стеклу окна, снаружи его худенькое бледное личико стало похожим на маленького поросёнка Ниф-Ниф, а может Наф-Наф или Нуф-Нуф из книжки с красивыми картинками, которую он любил смотреть, и которую воспитательница часто читала. Таким его и увидела впервые Аля, когда вошла в ворота детского дома.
Аля вышла замуж за Николая в институте, они любили, понимали и доверяли друг другу, им было хорошо вместе. И с квартирой повезло – бабушка Коли уехала к детям, оставив квартиру внуку. Сделали ремонт, обставились, жили тихо, мирно, счастливо, и всё бы хорошо, но… но не было деток. На четвёртый год замужества начались для Али бесконечные мучительные обследования, анализы, лечение, лечение, поездки в санаторий, но всё без успеха. Ещё через три года она стала паломницей по монастырям, церквям, храмам, ездила одна и с мужем, последний раз они были в Троице-Сергиевой Лавре. Выходя из Собора Лавры и глядя на жену, Николай вдруг отчётливо понял: она решила сегодня для себя что-то очень важное, нужное и как будто даже успокоилась. Так и было.
– Возьмём девочку из детского дома, – тихо и твёрдо сказала Аля.
Аля и Коля шли по длинному коридору на встречу с директором детского дома, когда одна из боковых дверей впереди них открылась, из неё вышли пожилая воспитательница, а за руку с ней шёл худенький, белобрысый вихрастый мальчик лет пяти, одетый в клетчатую рубашку с засученными рукавами и колготки. Колготки были старые, с вытянутыми коленками и истёртыми пятками, торчащими из-под сношенных сандаликов, были велики, натянуты поверх рубашки почти до подмышек, и малыш всё время их подтягивал. Мальчик неожиданно оглянулся, Аля увидела серьёзное личико и большие глаза. И эта картина – удаляющаяся по длинному, казалось, бесконечному коридору фигурка малыша в растянутых, больших, немыслимого абрикосового цвета колготках и стоптанных сандаликах за руку с воспитателем осталась в её памяти навсегда.
Алёшу уже знакомили с новыми родителями, но всякий раз при встрече с ними внутри него что-то замыкалось, захлопывалось, он не мог общаться, говорить, казался невоспитанным, даже диковатым, и никто поэтому не хотел продолжения знакомства. Он сидел на диване, когда в кабинет директора детского дома вошла Аля с мужем, и ему показалось, что вошло солнце, как будто тёплый свет исходил от этой невысокой женщины с милым, милым лицом и лучистыми умными глазами, в уголках которых притаилась тихая грусть. Документы собрали быстро, и всё шло к счастливому концу.
В тот день за рулём машины была Аля, Коля сидел рядом и не был пристегнут… лобовое столкновение. Пассажиры столкнувшейся машины отделались царапинами, у Али переломы, ушибы, тяжёлое сотрясение, а Николай-Коля-Коленька… его не стало… Аля четыре месяца лежала в больнице, потом училась заново ходить, есть, училась снова жить. Всё это время рядом с ней был друг Коли – Константин, и без него Аля, наверное, не вынесла бы того, что испытала. Аля и Костя стали мужем и женой. Десять месяцев прошло с того дня, когда Алёшка впервые увидел Алю. Он знал всё, что случилось. Знал и ждал. Ждал и верил. Маленький, сильный человек.
В декабре неожиданно зацвёл декабрист, и Алёшка наконец-то понял, почему цветок назывался именно так, зацвёл не красными, как обычно, а небывалыми по своей неземной красоте белыми цветами. Уборщица баба Поля сказала:
– Ну, Алёша, дождался, расцвёл через пять лет твой цветок, да какими цветами! Ты у нас, Алёшка, – белый декабрист.
На нежной трубочке невиданного цветка размещалось три кольца белых атласных лепестков, слегка розоватых у основания – по пять в каждом, внутри – метёлочка жёлтых тычинок, а одна самая длинная, ярко-красная тычинка свешивалась наружу. Если бы надо было придумать самый удивительный цветок, вряд ли кто-нибудь смог повторить это чудо природы.
Аля увидела Алёшку первая, он тихо сидел на подоконнике и задумчиво смотрел на ворота. Алёша даже не сразу узнал её, она похудела, вместо короткой стрижки – длинные волосы, высоко собранные в пышный пучок, как будто даже стала выше, но то же доброе лицо с сияющими и немного грустными глазами.
– Алёшенька, как ты вырос! Совсем большой стал! Как я ждала тебя!
– Пойдёмте, я покажу вам.
Алёшка крепко держал за руки Алю и Костю, и они смотрели на белые цветы декабриста вместе. Теперь вместе.
Квашеная капустка
Первые дни ноября… Для меня это всегда воспоминание о родителях, о далёком детстве, другой стране, другом времени и о квашеной капустке. Именно в это время мама всегда солила капусту на зиму. Капусту нельзя было солить раньше – до этого она была летняя, то есть мягкая, а к началу ноября капуста становилась крепкой, белой и сочной.
Жила наша семья в самом центре областного города недалеко от Москвы в четырёхэтажном небольшом доме, построенном, как говорили, немцами, в двухкомнатной квартире. Во дворе дома у каждой семьи был сарай, в сарае погреб, а в погребе бочки с солёной капустой, солёными огурцами, солёными помидорами и огромными ящиками, где хранилась картошка на всю зиму. Это – минимальный состав, но к этому ассортименту добавлялись, как правило, небольшие бочки с мочёными антоновскими яблоками и иногда с солёными грибами. Вот и была еда для семьи на всю зиму.
Солили капусту в большой деревянной дубовой бочке, которую папа поднимал на четвёртый этаж, где мы жили. Бочку мыли, закладывали в неё раскаленный чугунный брусок, веничек из можжевельника и всё заливали крутым кипятком. Поднимался ароматный можжевеловый пар, бочку накрывали одеялами и ждали, пока она остынет. В это время вся семья готовила капусту – рубила её специальной лопаткой в специальной деревянной ванночке. Потом мы терли морковь на крупной тёрке.
Бочка остывала, её переносили в погреб, и уже там мама закладывала в неё капусту, пересыпая её морковью, солью, добавляя обязательно антоновские яблоки. Накрывали капусту чистой хлопчатобумажной тряпочкой, потом деревянным кругом, на который ставили груз, чтобы выделился сок. Через две-три недели изумительная по вкусу квашеная капуста была готова. Никогда в жизни мама не ошиблась с солью, капуста получалась всегда приятного кисло-сладкого вкуса. Ели её до лета.
Потом, потом я стала жить в Москве, в самом центре, недалеко от метро Китай-город. Жила в небольшой комнате коммунальной квартиры, где кроме меня жили ещё три семьи, правда, небольшие. Дом был старый, потолки около четырёх метров высотой, мраморные подоконники, стены полметра толщиной. Между двух рам окна можно было поставить большое ведро, например, с той же капустой, но никто этого не делал, потому что в квартире была большая кладовая, где было всегда прохладно, и где все жильцы хранили запасы. И здесь, уже имея семью, я стала сама солить капусту каждый год.


