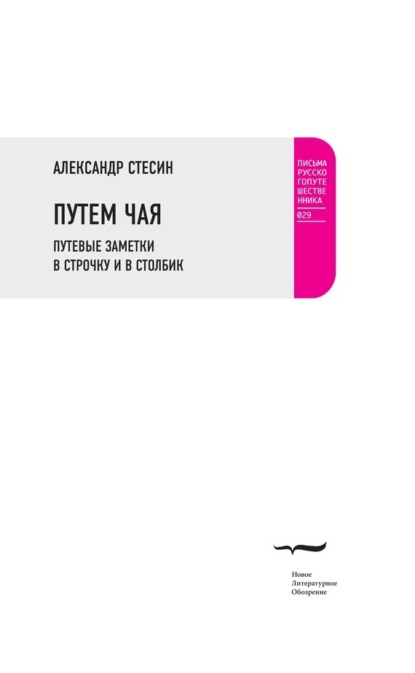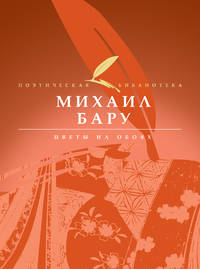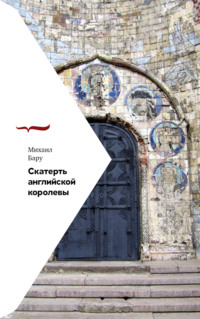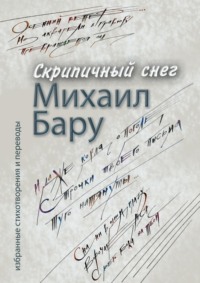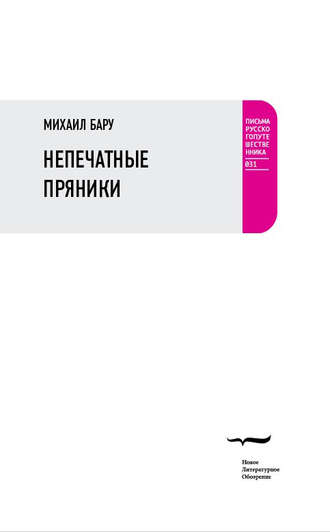
Полная версия
Непечатные пряники
Совсем в отрывках до нас дошло еще одно предание о посещении усадьбы князем Потемкиным-Таврическим и канцлером империи князем Безбородко. Собственно говоря, кроме этого факта ничего более и не известно. Читателю предлагается самому додумать, что из армянских вин и коньяков было подано к столу, подарил ли Иван Лазаревич своим гостям шелковые халаты, расшитые павлинами и куропатками, родились ли у нескольких крестьянских девок через положенное время младенцы и не живут ли до сих пор во Фрянове в полной безвестности и нищете внебрачные дети Григория Александровича и Александра Андреевича, скрывающие свои знаменитые фамилии под самыми обычными.
44
Да понимаю я прекрасно, что этот факт к созданию музея не имеет никакого отношения. Просто мне жалко выбрасывать такую затейливую деталь. Пусть она и от другого рассказа. Из точно таких же деталей отмечу бюст Сталина и аптеку на площади рядом с усадьбой. Сначала о бюсте. В начале пятидесятых решили строить во Фрянове Дом культуры, выкопали котлован под фундамент, и… в это самое время лучший друг физкультурников и велосипедистов отдал Повелителю мух то, что было у него вместо души. Фряновцы, как только пришел приказ из столицы о том, что физкультурники, не говоря о велосипедистах, показали на следствии, что никакого друга у них нет и не было, не медля ни дня снесли бюст к чертовой матери, а для того, чтобы впредь избежать ненужного поклонения каменному идолу и, не дай бог, жертвоприношений, его бросили в котлован и сделали частью фундамента. На тему сталинских основ фряновской культуры вы пошутите сами у себя в голове, а я расскажу вам об аптеке. На самом деле ничего особенного в этой аптеке нет. Еще в советские времена она была построена по типовому проекту во Фрянове. В лихие девяностые кто-то из тех, у кого в тот момент были руки по локоть во власти, смог приватизировать это здание. Аптечный бизнес – дело тонкое, и его так просто, как здание, украсть невозможно. Бизнес заупрямился и не пошел, а здание аптеки осталось. Не пропадать же добру, подумал удачливый приватизатор и поселился вместе с семьей в крепком бетонном здании аптеки, огородил его железным забором и протянул во дворе веревки для сушки белья. Говорят, что дня не проходит, чтобы фряновские мальчишки не позвонили в звонок у ворот и, перед тем как стремглав убежать, не спросили – нет ли в продаже презервативов анальгина или зеленки.
45
Мне бы не хотелось делать из этих фактов никаких и тем более далеко идущих выводов. Представим себе, к примеру, ящик для пожертвований в Доме-музее Пушкина в Кишиневе или такой же, но Гоголя в Полтаве. Представили? То-то и оно. Особенно в Полтаве.
46
И это при том, что Иван Лазаревич хотел сохранить фабрику «яко памятник трудов своих собывшийся благотворными одобрениями Монархов российских, трудолюбию подданных своих покровительствовавших, и для того никогда не соглашаясь оною продать в чужие руки и за самые знатные суммы, – хотя удобные к тому случаи и встречались».
47
Написал бы я сейчас, что иностранец по фамилии Каненгиссер остался жить в России и понемногу превратился в Каннегисера. Царская паспортистка ошиблась и при выписывании вида на жительство потеряла одну букву «с», а вторую «н» случайно задела пером и передвинула на другое место. Обычное дело. С поручиком Киже еще и не такое приключилось. Внук Каненгиссера, поэт Леонид Каннегисер пристрелил в восемнадцатом году из нагана ядовитую жабу – чекиста Урицкого. Это о Каннегисере писал Бальмонт «Пусть вечно светит свет венца бойцам Каплан и Каннегисер». И никто бы проверять не стал. Так ведь не напишу же, потому как совесть без зубов, а загрызет. Жалеть, однако, буду обязательно.
48
Местные жители называли машины Жаккара «жигарками».
49
Довольно быстро жаккардовое ткачество распространилось по всей округе, а потом и по России, и только богородский купец первой гильдии Лев Дмитриевич Лезерсон, имевший свою шелкоткацкую фабрику, отказался устанавливать у себя французские станы, а взял да и усовершенствовал обычный стан. Тут бы надо написать, что дальше опытного образца дело не пошло и правительство, к которому Лезерсон обращался с просьбой, показало ему… Не обращался он. Даже и не думал. Сам запатентовал свое изобретение, наладил производство своих станов и стал их продавать не куда-нибудь, а в Европу, и даже французские текстильные фабриканты лезерсоновские мистрали охотно покупали. Вообще Лезерсон был человеком удивительной судьбы. Родом он был из Любавичей, из очень религиозной и очень бедной еврейской семьи и, конечно, должен был стать раввином, тем более что его папа был очень дружен с самим Шнеерсоном, часть книг из библиотеки которого у нас через много лет так коварно умыкнули и вывезли за океан. Лезерсоны часто ходили в гости к Шнеерсонам, в доме которых было, как известно, ужасно шумно из‐за постоянных религиозных диспутов. Обычно маленький Лева забивался куда-нибудь в угол и немножко шил. Никакими силами его невозможно было оторвать от иголки и нитки. В конце концов родители поняли, что раввина из него не получится, дали ему денег для покупки небольшой швейной фабрики, купили удостоверение купца первой гильдии и посадили на поезд до Москвы.
50
Кстати, о бархате. «Папа всячески поддерживал промышленников, как, например, некоего Рогожина, который изготовлял тафту и бархат. Ему мы обязаны своими первыми бархатными платьями, которые мы надевали по воскресеньям в церковь. Это праздничное одеяние состояло из муслиновой юбки и бархатного корсажа фиолетового цвета. К нему мы надевали нитку жемчуга с кистью, подарок шаха Персидского». «Папа» здесь император Николай Первый, а «мы» – его дочери, великие княгини Ольга и Мария. Написано о рогожинском бархате Ольгой Николаевной, королевой Вюртембергской, в воспоминаниях в 1883 году. Хорошего качества, значит, был бархат, раз о его производителе не забыли и через пятьдесят с лишним лет.
51
Тут понятно почти все. Александрин – это полосатая ткань из смеси льна и хлопка. Омбре – узор на тканях набитый или вытканный полосками и переливами оттенков, а вот что такое «де суа Перс». «Шишков, прости, не знаю, как перевести».