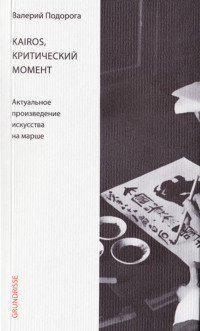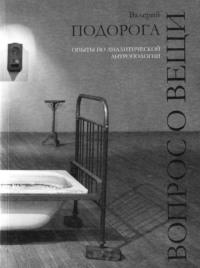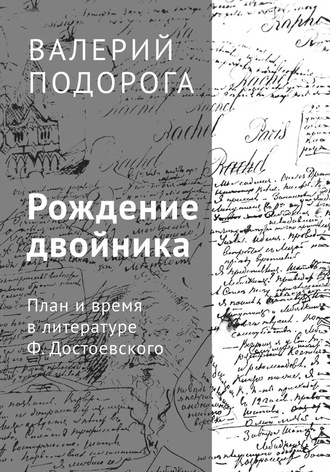
Полная версия
Рождение двойника. План и время в литературе Ф. Достоевского
При сравнении литератур Толстого и Достоевского следует интерпретировать смерть в двух режимах: как знак-индекс, указывающий на явление моего/твоего тела в своих позах, со своими жестами и физиогномикой, «историей» и т. п., это смерть субъективная, отнесенная к становлению экзистенциально целостной личности. Эту проблематику смерти прекрасно чувствовали М.Пруст и Л.Толстой. Тот же режим, который свойствен литературе Достоевского, скорее ставит под сомнение значение смерти, «у него никто не умирает». А не умирает потому, что ни один персонаж не получил отдельной живой формы, не сложился в границах диалектики отношений моего/твоего тела, внетелесная функция обезличивает, деперсонализует персонажа, утверждает его безразличие к жизни вне выговариваемой идеи (мысли). Персонаж Достоевского пребывает в кратком периоде существования, он живет, пока говорит (подает голос), он не умирает, пока принадлежит тому, что говорится. За звучащими потоками речи, разливающимся по этим обширным белым пространствам, нет ничего, даже самого слабого «я», как нет и «сознания». Бахтин вынужден допустить в качестве равного противника смерти «сознание» (и «самосознание»); оно не может быть завершено, ибо всегда соотнесено с другим, оно не одно. Но Достоевским такого рода терминология не используется, более того, он крайне негативно относился к самому понятию сознания (позже мы вновь вернемся к обсуждению этой проблемы).
Нет смерти и нет отношения к ней, но есть всеми замечаемая у Достоевского эротика изнасилованного, оскорбляемого, изуродованного и унижаемого тела. Не смерть в центре, а насилие. Смерть не является событием, она отделяется от насилия и не имеет никакой индивидуальной характеристики. Интересно, что плоть человеческая также вне индивидуальных отличий. Присмотритесь, и вы увидите, что в литературе Достоевского устойчиво чувство подавляемой телесности. В качестве ответной реакции – выброс возвышенных, идеальных чувств. «Мертвое тело Христа» не может быть представлено с точки зрения естественного процесса разложения, т. е. теперь это Плоть иная, сакральная, не природная преграда, а свидетельство Воскресения.
Таким образом, телесность у Достоевского скрыта, спрятана, в то время как у Толстого выходит на первый план и все определяет. Для него самым травматичным в картине Гольбейна-мл., конечно, является то, что Христос представлен как «труп», т. е. Он – не просто мертв, как бывает мертв человек, ушедший из жизни; тело унижено чудовищным насилием, оставившим после себя ужасающие следы смерти, – увидев это, разве можно думать о воскресении тела как Святой плоти[13]? Это насилие отыгрывается авторской жестокостью. Именно поэтому часто видят в Достоевском «русского маркиза де Сада». И это справедливо.
Ужас прикосновения
Слышим, буквально, по трепету собственной кожи ощущаем близость этого ужасного существа. Отвратительный образ ядовитого насекомого, «гадины», похожей на скорпиона: «блеск коричневой скорлупы», «трескучий шелест», «движение ядовитых игл», «вибрация хвоста», «необычная быстрота», – все это психомиметические punctum’ы, они порождают чувство отвращения, подлинного ужаса перед прикосновением (не столько даже боязнь прямой атаки). Умение исчезать/появляться: жертва ужаса не видит, куда скрывается животное, ведь оно способно занять любое место в сновидном пространстве[14]. Комнатное чудовище – актуализация страха. Дневной образ проясняется ночным (явь – сном). Сновидный тарантул – открытая форма страха, днем она может получить выход в виде беспокойства и тревоги, а может быть, и в более сильных переживаниях, но сам образ сокрыт, затушеван в других оболочках повседневного (риторических, образных, символических). Причудливый состав единого чувства: отвращение/гадливость, страх перед укусом, анонимность и тайна, насилие и эротика.
Вот как мог бы выглядеть этот тарантул:

Достоевский забирается на стул, чтобы рассмотреть картину предельно близко, почти коснуться… и, вероятно, коснулся того, что его так влекло к себе. Как будто что-то он хотел разглядеть, в чем сомневался и чему еще не верил… затем предлагается подробнейшее описание трупа «мертвого Христа», насколько оно вообще выполнимо. Так наглядно утверждается могущественная сила, сила Природы, которую превозмочь не может даже Иисус Христос, самое совершенное человеческое существо. И эта сила природного распада – демоническая. Смотреть на Христа и видеть рядом с ним огромного тарантула, «темное и немое существо», вызывающее устойчивую реакцию: ужаса и отвращения. Это не значит, что идеальный высший образ Бога исчезает, но диалектическое взаимодействие образов разрушается, между ними пропасть. В литературе Достоевского мы находим странных персонажей, словно по одной линии переходящих из романа в роман, «недоработанных», не исполнивших своей миссии, людей-тарантулов, персонажей «вселенского Зла». Достоевский их относит к типу «красных жучков»: Рогожин («Идиот»), Ставрогин («Бесы»), Версилов («Подросток»), Свидригайлов («Преступление и наказание»), Карамазов-отец («Братья Карамазовы»). Соблазнять способностью к преступлению, не прятать, наоборот, выпячивать, объявлять, демонстрировать свою стихийную силу, вместе с тем совершать и другие поступки как будто под влиянием высшего нравственного идеала: «Думать о хищном типе. Как можно более сознания во зле. Знаю, что зло, и раскаиваюсь, но делаю рядом с великими порывами. Можно так: две деятельности в одно и то же время; в одной (с одними людьми) деятельности он великий праведник, от всего сердца, возвышается духом и радуется своей деятельности в бесконечном умилении. В другой деятельности страшный преступник, лгун и развратник (с другими людьми). Один же на то и другое смотрит с высокомерием и унынием, отдаляет решение, махая рукой. Увлечен страстью. Здесь – страсть, с которой не хочет и не может бороться. Там – идеал его, очищающий и подвиг умиления и умилительной деятельности»[15]. Казалось бы картина Гольбейна-мл. «Мертвое Тело Христа» должна быть опосредствующим «переходным» термином между двумя членами уравнения; на самом же деле, это невозможно. Ее центральный образ действует совершенно иначе: совмещает несовместимое и вне синтеза. Первоначальный природный ужас подвергает драматичной проверке веру в божественное начало. Подражательная активность вытесняется из созерцания «мертвого Христа», вместо нее появляется сновидная, даже ближе к звуковой галлюцинации, форма реальности. Непримиренная в «третьем», Реальность требует компенсаторного сдвига, и Достоевский находит его в сновидных феноменах.
Конечно, здесь трудно избежать сопоставления с хорошо известным образом в мировой литературе, я имею в виду чудовищного жука из новеллы Ф.Кафки «Превращение». В. Набоков попытался дать нам изображение этого жука[16]. Поэтому сравнение было бы и уместно и продуктивно для нашего анализа, тем более что нужно предполагать, что «жук» Кафки, возможно, имеет литературное родство с «тарантулом» Достоевского. Правда, в отличие от Кафки, для которого сама проблема превращения стала самой настоящей драмой: становление жуком не как метафора, а как то невозможное и редкое, но что может реально случится со всяким. Поэтому описание реальности идет из этого «писка» и «скрежета» изуродованного существа, когда-то имевшего имя Григорий Замза. Наш ужас, читающих Кафку, ужас нутряной; действие негативного мимесиса, некогда описанного Т. Адорно при разборе литературы Кафки, здесь очевидно. И только приняв на себя роль Замзы-жука, мы в силах начать чтение. Литература Кафки не относится к жанру реализованных метафор, события, им описываемые, лишены символического значения (или, во всяком случае, интерпретация через символ возможна только post festum). У Достоевского все построено на сигналах, указывающих на степень условности того, что привиделось, например, Ипполиту, герою из романа «Идиот», в его сне-кошмаре. И главное там не то, что я могу стать, принять форму ужасного насекомого, а что это «жуткое существо» может меня заразить таким ужасающим страхом, вынести который невозможно, поскольку он не имеет соразмерной ему и завершенной формы. Достоевский пытается изобразить страх в его полностью овеществленной, актуально зримой форме, чтобы хоть в какой-то мере погасить этот нарастающий ужас перед бесформенным. И вот почему страх перед прикосновением выходит на первый план: боязнь заразиться тем, что чудовище-тарантул, а это ведь насекомое, обладающее смертельным ядом, совершенно неподвластно человеку, если тот ослабел и потерял веру. И наконец, само появление в сновидениях таких «оскорбительных» существ есть знак нарушения высшего нравственного Закона. Сновидение открывает ужас как род изгнания и отверженности сновидящего, раз ему снится то, что не должно сниться.
I. План и произведение
План – это предел, указанный труду: он замыкает будущее, форму которого очерчивает.
Л. Бергсон1. Что такое план?
С течением времени посмертный архив великого писателя начинает изучаться сотнями высокопрофессиональных специалистов, и постепенно, благодаря успехам историко-филологического дознания, стирается грань между «завершенным» произведением и первичными «сырыми» материалами (подготовительные наброски, дневниковые записи, «рабочие тетради», фрагменты незавершенных рукописей, заметки о состоянии здоровья или расчеты долгов). Научное значение архивной работы растет, возможно, пропорционально утрате произведением литературы «живых» черт (т. е. с падением общественного интереса к идеям, идеологии, стилю великого писателя). И чем больше произведение приобретает черты классического образца, памятника культуры, тем менее оно современно. Новые стратегии чтения или его радикальным образом обновляют (комментарий руководит чтением, упраздняя его автономию), или остаются к нему полностью безразличными, и тогда произведение – только памятник, чей читатель давно «мертв».
Изучая «черновые» рукописи и другие материалы Достоевского, видишь, насколько план является для него решающим в экзистенциально-творческом и, я бы сказал, в метафизическом отношении – «выдуманивание планов» как цель в себе[17]. Казалось бы, произведение (опубликованный роман или повесть) – итог всей подготовительной работы; все, что задумывалось, и то, от чего пришлось отказаться, больше не имеет значения. В окончательной редакции рукописи романа следы планирования трудно обнаружить; так, по мере готовности постройки, снимают ненужные леса, и никому уже не интересно знать о том, что они поддерживали строящееся здание. Устранить следы подготовительной работы – одна из целей авторской доработки рукописи. Однако у Достоевского все иначе – развитие плана не скрыто повествованием: план больше чем произведение, в нем заявлена воля к произведению (как идеальному плану). Поражаешься не столько многообразию замыслов, сколько тому, что и опубликованная рукопись – лишь один из возможных вариантов плана. Что же говорить о черновиках и рабочих записях, предстающих подвижной, живой плоскостью, испещренной дырами, пропусками и разрывами, с множеством вспомогательных комментариев, уточнений, отмен («зачеркиваний»), соперничающих друг с другом. Предваряющему плану не соответствует никакой конечный результат (т. е. то, что собрано, написано, отпечатано и издано в форме книги)[18].
«Я вполне был уверен, что поспею в „Зарю“. И что же? Весь год я только рвал и переиначивал. Я исписал такие груды бумаги, что потерял даже систему для справок с записанным. Не менее 10 раз я изменял весь план и писал первую часть снова. Два-три месяца назад я был в отчаянии. Наконец все создалось разом и уже не может быть изменено, но будет 30 или 35 листов. Если бы было время теперь написать не торопясь (не к срокам), то, может быть, и вышло бы что-нибудь хорошее. Но уж наверно выйдет удлинение одних частей перед другими и растянутость! Написано мною до 10 листов всего, 5 отослано, 5 отсылаю через две недели и затем буду работать каждый день как вол, до тех пор как кончу. Вот мое положение…»[19]
«Затем (так как вся моя будущность тут сидела) я стал мучиться выдумыванием нового романа. Старый не хотел продолжать ни за что. Не мог. Я думал от 4-ого до 18-ого декабря нового стиля включительно. Средним числом, я думаю, выходило планов по шести (не менее) ежедневно. Голова моя обратилась в мельницу. Как я не помешался – не понимаю. Наконец 18-ого декабря я сел писать новый роман, 5-ого января (нового стиля) я отослал в редакцию 5 глав первой части (листов около 5) с удостоверением, что 10 января (нового стиля) вышлю две главы первой части. Вчера, 11-го числа, я выслал эти 2 главы и таким образом отослал всю первую часть – листов 6 или 6V2 печатных»[20].
«Да, я страдал этим и страдаю; я совершенно не умею до сих пор (не научился) совладать с моими средствами. Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии»[21].
План оказывается движением поэтической трансценденции, которая безнадежно зарывается в материал в поисках своего двойника – плана имманенции, т. е. плана конечного, завершенного. Смена плана предполагает или его новое повторение, или отмену, но последнее весьма редко встречается у Достоевского. Планирование – игра, близкая механике калейдоскопа: «перебор» спланированного, и всякий раз, в каждом повороте невидимых зеркалец, новый узор[22]. План составляется для того, чтобы как можно более точно выразить основную идею. Идею следует отличать от замысла, ибо замысел может меняться, подготавливая изменения плана, но не идея. Достоевский говорит о замысле, почти бальзаковском, серии романов (повестей) под общим названием «Житие великого грешника», но объединяющая идея – в создании идеального героического («хищного») типа, в котором совмещались бы высшие, достойные и низшие, отвратительные качества человеческой природы. Главный герой – Идея. Замысел отдельного романа или повести относится к техническим возможностям реализации идеи. Введение новых тем, сюжетов, «завязок» или отмена старых никак не влияет на идею, она неизменна, но планы выражения идеи постоянно меняются. Понятно, что идея не может не вступить в противоречие с возможными средствами выражения. Насколько точно должна быть выражена идея, чтобы драматически развернуться и обрести повествовательную форму?
Что такое идея? Сама по себе идея, если свести ее к отдельному высказыванию, лишена всякой определенности, она чисто идеальная сущность – истина. Для автора, но не для нас, читателей, идея – направление поиска, результат и цель; идея регулятивна, предмет авторского влечения и страсти, автор ею «живет». Подчас он даже не в силах (как это и происходит с Достоевским-автором) создать приемлемую экономию средств выражения. Идея предполагает наличие скрытых сил-мотивов, она мотивирована изнутри, но как биполярная сила, влекущая к себе и отвращающая, и, тем не менее, единая как порыв, хотя ее биполярность неустранима; автор не прекращает попыток исследовать составляющие ее мотивы. Выражение идеи – развертывание поля борьбы мотивов. Идея сцепляет между собой форму выражения и форму содержания плана. В сущности, форма выражения относится к тому, что можно назвать произведением, а форма содержания – к тому, что можно назвать планом. Итак, есть отдельные планы и есть План; есть также произведения, но есть и Произведение. На уровне трансцендентного сопоставления План и Произведение тождественны, между ними нет различий, они обозначают одно и то же, неразделимые в функции порождения нового смысла, Идеи. То третье, что объединяет план и произведение, и есть идея.
Что представляет собой план в более широких характеристиках, не ограниченных приложением к литературному опыту? Возможно установление различий между двумя основными видами планирования: планом трансцендентным и планом имманентным[23]. Когда мы рассматриваем различные виды планов (милитарные, политические, экономические, художественные, архитектурные и т. д.), то легко убедиться, что среди них доминирующую роль играют планы, построенные по типу древа. Известный образец: мировое дерево как план Мира (Книги, Природы, Космоса). Пирамиды, конусы, силуэты и контуры, где всегда есть исходная точка, порождающая каскад других точек, отмечающая свое присутствие на каждом из узлов пересечения и развития, древнейшая и неизменная форма трансцендентного плана. Планы развития, «генетические», они предполагают управление временем на основе предвосхищения и проектирования моментов будущего. Другими словами, план трансцендентный – это организация определенного набора данных в том порядке, который наиболее приемлем для ожидаемых следствий. Как это ни парадоксально, но план здесь противостоит планируемому только тем, что включает его в себя, лишает автономии и «случайности». Трансцендентный план отменяет сопротивление времени и материала, он первоначален. Развертывание абсолютного духа в гегелевской диалектике – это утверждение первоначального тождества Плана-и-Мира.
Фундаментальные различия в принципах планирования: между схемой, проектом и картой. Всякий план противостоит времени, но не всякий план им управляет, тем более не всякий план его в силах отменить. Приведенные виды планов являются темпоральными. В каждом из планов время подпадает под контроль, ограничивается: схема – для прошлого, проект – для будущего, карта – для настоящего.
(1) Если обратиться к плану-схеме, то следует признать, что наиболее действенен план операциональный, или план действий (операций). Не действия, а действий (операций). Берем «действие» во множественном числе, чтобы указать на «жесткую» зависимость между планом и последовательностью действий. Требуется строгое следование первоначальным установкам, в противном случае план «не сработает». Схема устраняет все случайности, ибо включает в себя следствия, учитывает возможные ошибки и просчеты. Этот план объективирует время решения задачи, располагая его в единицах хронометража. Другими словами, план представляет собой иерархическую структуру, построенную на соподчинении определенных инструкций, управляющих отдельной операцией (действием). Важно точное следование плану, в противном случае ценность плана становится сомнительной. Итак, план операциональный – это ряд инструкций (или правил), необходимых для совершения некоего рода операций (действий)[24]. С его помощью совершается перевод непрерывных последовательностей в дискретные (пространственные) образы. Схема – это план того, что уже было, она отрезает нас от будущего в пользу превосходства над ним идеального прошлого. План затребован в качестве орудия антивремени: планировать – это противостоять все отменяющему потоку времени. Будет другое время, не то, которым мы обладаем в переживаниях или собственных расчетах. С помощью операционального плана реализуется идеальный генезис временного потока событий. Если идеальное интерпретируется именно так, то тогда временной поток – это упрощенное, сведенное к прошлому состояние времени. Утверждаясь, план-схема не дает будущему времени изменить себя.
(2) Следующий способ планирования, план-проект, должен быть понят скорее как план имманентный, чем трансцендентный, он предваряет реальность и навязывает ей условия актуализации. План-проект ориентирован на время, которое лежит за границами настоящего, он не опережает будущее, скорее конструирует, заново создает. Другими словами, проект обращен в будущее; он – всегда в том времени, которое отсутствует; значимо одно время – время идеальное (не ограниченное никаким реальным временем). Проект проектирует будущее, чтобы его контролировать. Будущее вне горизонта проектирования не существует. Проект обладает свободой по отношению к реальности, которая остается следствием проектирующей позиции. Ж.-П. Сартр рассматривает проект (projet), исходя не из его объективного статуса, а из личности, автономной и свободной, которую можно описать как личность себя проектирующую. Проект, проектирование – это «неслыханный акт свободы субъекта». Таким образом, главное – это свободный экзистенциальный выбор. Всякому проекту противостоит опыт или то, что Батай назовет «внутренним опытом», под которым понимается жизнь, всякий раз отменяющая любой из возможных планов-проектов. Проектирование как проброшенность-вперед-навстречу ближайшему будущему, его захват. Двойное движение, которое переживает экзистенциальный субъект, ибо сам он – не что иное, как результат проектирования себя, «человек всегда впереди себя». Проект – это другое имя свободы, без которой человеческое существование теряет всякий смысл. Никакой проект не может быть завершен, проект отменяет любой другой проект, но не в силах отменить проективность бытия свободы. Субъект-экзистенция оказывается очагом непрерывного проектирования, субъект и есть проект, всегда впереди себя, он, собственно, всегда-уже в будущем. Более того, как замечает Сартр, «человек есть существо, появление которого взывает к существованию мир»[25]. Другими словами, человек именно в силу своей безотносительности к тому, что он есть, есть всегда то, что он не есть. Никакая объективность (шире, реальность) не может быть актуализована без субъективности. Но вот что интересно: объективность (или «объективация») – это и есть реализация идеи Проекта. Когда стиль, индивидуальное самополагание будет преодолено, объективировано в форме труда, действия или поступка, только тогда дело свободы будет достигнуто. Картезианский предрассудок Сартра: как и Декарту, действие свободы представляется ему проектным, – рождается из ничто, все начинается вновь и вновь от tabula rasa, мир может открыться только благодаря субъекту, свобода субъекта открывает мир. В каждое мгновение божественная свобода создает мир заново.
В любом случае, проект всегда больше, чем наступающее будущее; оно не оказывает никакого сопротивления проекту, да и не может оказать, оно пассивно. В плане-проекте есть что-то от радикальной утопии – возможно, в нем как посреднике пересекаются романтическое ожидание «светлого будущего» и нигилистическое презрение к неудавшейся западной культуре.
(3) Наконец, речь должна пойти о план-карте, которая перекрывает области реальных и воображаемых путешествий, размечает территории в соответствии с «качествами» времени, мягко их ограничивая и деля, чтобы сохранить резерв возможностей для изменения. При наложении карта в силу имманентности не изменяет картируемое, а скорее проявляет его свойства. Можно начать с путеводителя по городу. Вы находите в нем подробный план города, в котором никогда не были, он должен помочь вам сориентироваться в неизвестном городском пространстве. Однако на плане вы не найдете ничего из того, что вам потом может встретиться. Вы используете план не для того, чтобы обнаружить в нем какое-либо сходство с реальным городом, а как ориентационную схему, позволяющую найти нужную улицу или дом. Но это всего лишь план места, и естественно, что он имеет свою специфичность в качестве плана, часто приближаясь к схеме, чертежному наброску или карте географической. Вы ориентируетесь по плану, но движетесь в реальном пространстве, которое осваиваете заново приобретаемым телесным опытом. Ваше повторное посещение города и известных вам мест будет уже зависеть не от путеводителя, а от тех специфических физиогномик городского ландшафта, которые вы запомнили и превратили в своеобразные мнемонические знаки вашего прежнего блуждания. План города был условием начальной ориентации, но не самой ориентацией, он открывает ее опытную возможность, но не является, собственно, ориентирующим; это всего лишь план-схема, он не имеет внутреннего развития и всегда тождествен себе. План ориентационный зависит от наших способностей к выбору пути в незнакомом пространстве-времени, от первоначальных телесных координат (левое-правое, дальнее-близкое, темное-светлое, фигура-фон и т. п.), без которых мы не можем ни начать, ни продолжать путешествие.
В искусстве и литературе в основном используются планы имманентные: они могут быть признаны за схемы, копии, образцы, наброски, опыты и т. п., но свое базовое свойство имманентности они при этом не теряют. Здесь протекающее время неотделимо от нашего выбора пути (как не заплутать, ведь скоро стемнеет?) и времени настоящего, которое пульсирует в сменяющихся мгновениях дня. При таком ориентационном планировании мы остаемся современными времени мгновения существами. Есть действительный план Санкт-Петербурга, но есть и другие виртуальные планы Санкт-Петербурга: карта города в «Преступлении и наказании», которую первым попытался исследовать И. Анненский, совмещая в одном целостном образе план Петербурга возможного и реальный путь, которым движется убийца Раскольников; есть «Дублин» Стивена Дедала, главного героя романа Джойса «Улисс»; есть «Петербург» Андрея Белого, не только размеченный по плоскости, но и вертикальный. План произведения не может, конечно, совпадать с планом места, и вместе с тем общее произведенческое планирование всегда учитывает стратегию локального ориентационного плана, просто это один из планов, что играет конструктивную роль в развертывании повествования (оно может «надеваться» на него как на остов). В одном случае городской маршрут и его карта крайне важны для повествования (Дж. Джойс), в другом он только слегка намечается (Ф. Достоевский), в третьем (А. Белый, Н. Гоголь) город включается в повествование, поскольку образует нечто подобное плотной завесе или атмосферы повествования, без которой крайне трудно отличать реальность от сюрреальности. Где все это происходит (что не должно происходить или что кажется происходящим)? Вам в качестве ответа и предлагают карту города: вот эта улица, вот этот дом, вот эта девушка, что я влюблен… И что мы замечаем? Оказывается план-карта имеет скрытого субъекта, то бесконечно удаленного и всевидящего, «око Бога», то оказывающегося в глубине, в какой-то невзрачной каморке, даже в не комнате, но именно оттуда карта и начинает развертываться. И тот и другой планы являются имманентными представляемому месту, ибо без них оно не может быть наделено достаточной мерой реального.