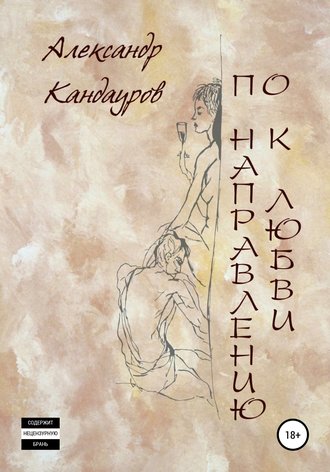
Полная версия
По направлению к любви
Пройдут годы, и он станет вторым после командира военным лётчиком первого класса на весь авиаполк, но и этим не заслужит ни любви, ни даже жалости у суровой родины.
А пока курсанты только собираются в местную больницу на медкомиссию. Гогоча и жеребячась, они войдут в зелёный больничный двор, где твой папа увидит девушку – худую, смешливую, слегка прихрамывающую, с серыми глазами и вьющимися волосами до плеч. И выберет её тебе в мамы. Или она его тебе в папы. Бог весть.
3
Когда ты подрастёшь, бабушка расскажет тебе эту историю.
Её муж, а твой дед был из поповичей, за что сразу же после пролетарской революции был изгнан из университета, быстро всё понял, отрекаться от отца отказался, но переквалифицировался в бухгалтеры.
Надо сказать, что и в этом скромном качестве он продолжал интересовать ГБ, но удивительным образом не попал в лишённую всякой логики предвоенную мясорубку.
Бабушка была его второй женой.
Когда в Армавир вошли немцы, он трудился в бухгалтерии местного консервного заводика. Однажды пришёл домой, расплакался: «Они предложили мне стать директором. Всё, я пропал». Соглашаться было нельзя. Отказываться – тоже.
Он согласился, оттягивая час расплаты. Но этот час пришёл. Советские солдаты подходили к Армавиру. Он не сомневался, что его расстреляют. И ушёл. Думал, может быть утрясётся. Вышло навсегда. С ним ушёл отец маминой подруги Коля Струков с сыном Володей.
Ты приедешь в гости к седому Володе Струкову в Нью-Джерси в девяностом и много чего узнаешь о деде – слабом, вечно сомневающемся, сентиментальном, талантливом, капризном старике со сломанной жизнью, с бойким пером и глазами на мокром месте.
И что тебе в нём сегодня, когда сам уже давно с ярмарки?
«Не расстреливал несчастных по темницам…»
Да нет, какой там. Хотел отсидеться в своей норе, с Наденькой, с хромоножкой-Ирочкой, с маленьким Игорьком-Лёкой. Времена-то сами знаете, какие. Ему было сорок четыре. Твоей маме – одиннадцать. Игорю четыре. Он не знал, что говорить и делать, не был готов к бессмысленному – как на бойне – концу. А его вытащили на совсем не божий свет, раздели на площади, поставили перед стенкой, заставили отвечать на самые трудные, последние вопросы. Кто нашёл в себе силы на них ответить, смело бросайте в деда камень.
Я вижу этот старый, облезлый армавирский дом, покосившийся от бедности, горя, страха и стыда. Белёная мазанка. В нём напуганные голодные люди: бабушка, мама и её брат Лёка.
Бабушка не работает, сидит с детьми. Денег нет. Запасов, накоплений нет. Продуктовых карточек жёнам изменников не полагается. Жёнам изменников вместо карточек полагаются вызовы на допросы в ГБ. Допросы, вопросы, протоколы, угрозы. Оттуда домой, в голодный дом.
Вот в некрашеный ставень стучит робкая рука, пришли соседи-рабочие с консервного завода.
«Ну, хочешь, Надя, мы пойдём, скажем, что и как, что при нём ни одного рабочего немцы не тронули, что не рвался он в директора».
«Нет уж, спасибо на добром слове, не надо, как бы хуже не было».
«Как хочешь. Вот здесь муки немного, ребятам спеки, а мы пойдём».
4
ПЕРВЫЕ ПИСЬМА ИЗ АМЕРИКИ(Орфография и пунктуация подлинника сохранены)Дед – бабушке12 сентября 1961 года
Родная моя, дорогая Надя!
Ты напрасно извиняешься за то, что называешь меня не так, как прежде, и за то, что не сразу ответила мне. Я не сержусь на это, да и могу ли я иметь какие-либо претензии к тебе? Спасибо и за то, что ты в состоянии дать мне в теперешних наших условиях, спасибо за то, что сохранила чувства ко мне, спасибо за всё прежнее, спасибо за всё-всё, что ты без остатка отдала мне и семье на протяжении нашей семейной жизни.
……………………………
Ты знаешь, что с самого первого дня как только нас отправили, я аккуратно, часто на клочках бумажки, записывал свои переживания, волнения, слёзы, и считал каждый день, прожитый без вас; каждый день я записывал: «прошло столько-то дней, как я оставил своих родных, дорогих… и т. д.» И вот этих дней стало накопляться всё больше, больше, я писал – прошло сто дней, прошло двести, триста…прошло тысяча… две тысячи…три тысячи…а я продолжал всё так же остро чувствовать страшное непоправимое горе от нашей разлуки.
Казалось часто, что сердце моё настолько переполнено страданием, что оно не выдержит, оно не в состоянии носить в себе такую непомерную тяжесть. А оказалось, выдержало и работает до сих пор, несмотря на то, что и годы уже достаточные подошли, и обстановка вокруг чуждая и совсем чужая.
В дороге мы плохо уживались, мы много раз расходились, потом опять сходились. Ссориться громко мы не ссорились, но когда к моему страшному горю прибавлялись переживания «местные», я не выдерживал, брал свою сумку, всё остальное бросал и…уходил, куда глаза глядят, хотя глаза мои в это время застилались слезами и ничего не видели впереди.
Потом проходило много времени, судьба опять сталкивала нас, мы были вместе, опять расходились, опять встречались.
…………………………………….
А если бы ты знала, как упорно, настойчиво я вынашивал эту мысль – написать, дать знать, что я ещё жив, помню и люблю всех вас. Боялся писать прямо, просил знакомых своих и друзей, кто переписывался со своими родственниками, чтобы те там черкнули вам открыточку обо мне, и каждый раз получал оттуда отказ…
Теперь я – самый счастливый человек в мире, я уже увидел тебя и моих дорогих внуков Сашуню и Юрочку, я имею возможность говорить с вами. Делиться с вами горем своим и радостью. Очень, очень жаль, что произошло это так поздно. Многое, многое можно было бы предотвратить и многое строить совсем иначе. Я мог бы и должен был помогать выводить детей в люди, разделить с тобой хотя бы материальные трудности.
«Снявши голову, по волосам не плачут» – говорит наша русская пословица.
………………………………….
А об Игоре ты напиши больше мне…Маленький он был такой чудный, такой ласковый, такой нежный. Как он всегда был готов помогать мне во всём, как всегда, каждый день встречал меня с Ирочкой на углу, когда я возвращался с работы… Помнишь: «Мамочка, помоли меня!» И вдруг Лёка грубый с тобой, с другими. Я не представляю себе этого, ты извини меня.
Соседка Раиса – да, та самая, дяди Минина жена – научила шить бюстгальтеры и продавать на рынке. Бабушка в сорок четыре не жена и не вдова с двумя детишками на руках начинает новую жизнь.
О чём она думала, искалывая неумелые пальцы? Как соседкам – вдовам в глаза смотреть? Как от худой молвы ребят спрятать? Где Боря? И одной плохо, и ему возвращаться не след – ещё хуже будет.
Чего только не передумаешь в бедном домике на отшибе, у спуска к Кубани. Игорёк где-то стал пропадать, видать, в плохой компании. Вон их сколько, пацанов неприкаянных, кто курит, кто уж и попивает. Завтра опять на рынок, а там думать и зевать некогда.
5
ПЕРВЫЕ ПИСЬМА ИЗ АМЕРИКИ(Орфография и пунктуация подлинника сохранены)Дед – бабушкеОктябрь 1961 года
Дорогая Надя, солнышко моё, ласточка родная!
Понимаю твоё волнение и сам не избежал тяжёлых переживаний. Всё время, всегда у меня было непреодолимое желание сказать вам о себе, во время тяжёлых переживаний пожаловаться на жизнь, в чрезвычайно редкие минуты просветов поделиться с вами радостью. Только боязнь повредить вам останавливала меня, каждый раз хотел кричать от боли и не мог, не хотел испортить жизнь вам. Первые месяцы разлуки я целыми днями и ночами молился и просил, чтобы мне вернуться домой и быть вместе с вами. Не помогло! А теперь и молиться перестал.
Ты пишешь, что тебе было очень трудно растить, воспитывать, сделать хорошими людьми наших детей. Ты думаешь, я этого не понимаю, ты думаешь, я не преклоняюсь перед твоим постоянным колоссальным напряжением, непосильным трудом и твёрдостью характера. Я знал, я был уверен, что ты сделаешь всё, что в твоих силах, чтобы сохранить себя и свою семью в целости и в порядке. Честь и хвала тебе!
В твоём письме чувствуется какая-то неприязнь ко мне. Ты мне пишешь «Дорогой Борис!» А ты знаешь, ты ведь никогда меня так не называла. Может быть, называла, когда я обижал тебя. Ну, Бог с тобой! Я не в претензии. Заслуживаю большего. И заслуживаю в то же время снисхождения. Много пережил, колоссально много, но об этом не пишу сейчас, напишу в другой раз. Достаточно уже того, что три раза был на операционном столе, резали, и всё только потому, что тяжело работал. Но и это не важно!
Ты спрашиваешь у меня, возможно ли нам увидеться? Несмотря на моё страстное, непреодолимое желание хоть один раз, перед смертью, увидеть всех вас и тогда уже навечно закрыть глаза, несмотря на старость и оставшееся считанное время для жизни, я думаю, что мы не сможем увидеться. Вспоминаю 1936-й, вспоминаю визит за несколько дней до войны и думаю, что мы не сможем увидеться. Можете вы приехать ко мне? Наверное, тоже нет.
Так много должен был написать и ничего не написал. Ласточка, родная моя, ты не сердись на меня. Прости всё, что было, забудь!
Крепко тебя обнимаю, целую, плачу от радости, что могу говорить с тобой.
Твой Борис
Дед – маме19 ноября 1961 года
……………………………
Ты коротенько рассказала о том, как вы жили без меня. Я совершенно ясно представил ваши мытарства, переезды с места на место. Но, как видно, вы никому не были нужны, никто не хотел принимать в вас участия. Вы были обречены тянуть безрадостную, непосильную лямку и тем существовать. И маме, конечно, вся эта тяжесть была не по силам. Не готовилась к этим трудностям мама. Не ожидала она, что к концу войны и дальше потом на много лет будет одна и добытчик, и распределитель, и воспитатель.
Тяжело, очень тяжело пришлось ей, бедной. И, конечно, сколько ни имей в запасе, хватить этого надолго не могло. С самого начала, с первых дней нужда стояла сзади, всегда была начеку. И, когда я перебираю в памяти всё, что мне пришлось пережить за эти долгие годы, я не нахожу ничего, что было бы хоть капельку похоже на ваши трудности, на ваши переживания.
……………………………….
Долго мы и медленно двигались в неизвестность, проезжая в день не больше 30 км. Было зимно, морозно; днём оттаивало, а ночью снова покрывало льдом. Тяжело было лошадям тащить повозку по грязи, и мы по временам шли по обочине.
И вот, предоставленный самому себе, с тяжёлым сердцем, с ничего не видящими от слёз глазами, я шагал по вязкой глубокой грязи, в стороне от дороги. И мне странное пришло в голову желание: вот найти бы кольцо. Оно мне не было нужно. И, если бы я рассказал об этом своей компании, меня подняли бы на смех, сочли бы за сумасшедшего, выругали бы. И о чём бы я ни думал, что бы ни вспоминал, в мыслях опять появлялось это желание.
И уж не помню, на какой день после того, как я свихнулся, я шёл по громадным комьям разбитой дороги, сам увязал чуть ли не по колени в грязи, и вдруг перед собой я увидел кольцо. Оно не было золотое, но широкое, настоящее обручальное кольцо. Я его вытер хорошенько, почистил, одел на палец – как раз впору. Тогда я подошёл к Коле и показал ему свою находку. Он посмотрел, повертел в руках и сказал: «Надо променять на молоко, бутылок пять дадут!» Но я его не променял, а позже оно пропало у меня со всеми моими вещами. Это я вспомнил в связи с твоей чудесной находкой.
…………………………………….
Многое и в моей жизни не ладилось, часто и я бывал в отчаянии, много пришлось голодать, быть в холоде, приближалась зима, а у меня только одни брючишки и одна лёгкая рубашонка, без заработка, без денег, без перспектив. А потом находились добрые люди, пригревали, помогали найти какую-нибудь работу. Пилил и колол дрова, как дядя Лара цеплялся за каждую возможность и находил выход. А душа постоянно болела, всегда думал о вас, мучился от неизвестности.
Твоё единственное письмо в 48 г. и расстроило, и приободрило, а потом гробовое молчание на долгие годы. Теперь я рад и доволен, что разговариваю с вами, дорожу каждым письмом вашим, каждым словом.

6
Долог пеший переход из Армавира до Германии. Сначала дед и его попутчики держат путь в Краснодар. Идут по непролазной грязи, тащатся на подводе. Никому не нужные, бросившие дома, жён и детей. Гонит их страх. Гонит жестокий век, заставший всех врасплох. Грызутся, а в одиночку ещё страшнее.
Никто нигде их не ждёт. Бегут от смерти и от всей прежней своей жизни, бегут в никуда от любимых и любящих, бегут без вины виноватые.
Строгая родина, допустившая немца в их дома, и просто так, бывало, расстреливала, а уж за их грех и подавно порешит – не извольте сомневаться.
Вот маленькая фотография: дед с какими-то сурового вида мужчинами в одинаковой, похожей на униформу одежде. На обороте написано: «Старое фото. Германия. 1946. Ирочке на память».
Деду здесь сорок восемь. На щеках вертикальные складки, седой бобрик. Усталые, но живые глаза. Чистый Голливуд.
Ты знаешь, что это Германия, город Ульм на Дунае. Ему опять повезло: это в американской зоне. Он не хочет в лагерь для перемещённых лиц, там могут выдать, там пахнет ГУЛАГом. Дед голодает, холодает, работает в охране, зарабатывает на хлеб тем, что колет и пилит кому-то дрова, поёт в русском хоре. Хор разъезжает по Германии, поют в деревнях, спят вповалку на сеновалах, им платят картошкой, капустой.
Без дома, без надежды, в страхе проходят годы.
Каким-то непостижимым образом дед устраивается садовником в дом немки – богатой вдовы. Её муж не вернулся с восточного фронта. Её зовут Лотта. Он заболевает, попадает в больницу, его оперируют раз, потом ещё раз, он может умереть.
Сердобольная хозяйка подкармливает своего незадачливого, почти не говорящего по-немецки садовника. Но вот беда: ему нельзя долго оставаться в больнице, ибо русских везде ловят, их с нетерпением ждёт родина.
Лотта забирает ещё не окрепшего Борю, и они женятся. Её многочисленная родня принимает его в штыки. Тогда они продают дом и с сундуком лоттиного честного немецкого фамильного серебра через пару месяцев, в сентябре 1950-го года высаживаются в Нью-Йорке.
Браво, Борис Петрович! Bravo, Mister Yaroshevich! Well done! Продолжительные аплодисменты!
Потом ты углубишься в дедовы письма и увидишь, что всё было не совсем так, как тебе представлялось, что дед уехал в Штаты один, а Лотта приехала к нему много позже, но кого интересует, как было на самом деле? Было и было. И что из того?
Смотри, какая славная история сложилась. Что же теперь, всё переписывать?
7
Году примерно в 48-м, в ещё одном злом и голодном году твоя мама поступает в армавирское фельдшерско-акушерское училище. Вот эта фотография: смешливые девчонки в белых халатах и шапочках смотрят, обнявшись, в объектив. Ещё одна, на ней те же девочки, но после какого-то спектакля: они оделись как черкешенки и нарисовали себе усы. Смеются, всё нипочём.
Вот Алла, дочка ушедшего с дедом Коли, сестра ушедшего с отцом Володи. Она мамина подружка по несчастью.
Это похоже на сон, но это не сон, это быль. Вот твоя мама рано утром идёт в училище. Поздняя осень, холодно, ветрено, сыро. Вдруг она замечает на тротуаре кучу денег. Они лежат ровной пачкой, ветер ещё не разметал ассигнации по мостовой. Денег много, но маму научили никогда не прикасаться к чужому.
Она оглядывается по сторонам, вокруг ни души. Они что, ничьи? Её начинает колотить дрожь, она видит свою маму, склонившуюся над швейной машинкой, их пустой, безнадёжный дом, где прочно поселилось горе.
Потом, расскажет тебе она, она уже ничего не видит, кроме этой горы денег. Она суёт их в сумку, в карманы, за пазуху, опять оглядывается, но улица словно вымерла. Она бежит домой, влетает в комнату и вываливает деньги на стол. Твоя бабушка хватается за сердце, она устраивает допрос, она хочет знать правду. «Я ещё раз тебя, Ирочка, спрашиваю, где ты это взяла?»
Они прячут деньги в доме и идут на это место посмотреть, не ищет ли кто деньги, чтобы тогда уж по-тихому вернуть. Ходят себе люди, проезжает редкая машина. И всё.
Очень интересно ты рассказала о находке своей. Это похоже на что-то сверхъестественное, случай поразительный, в рамки обыкновенного он не укладывается. Кто так, рассыпав, мог потерять их? Почему никто раньше тебя не увидел?
Тогда они купили мешок муки, сахар, бутыль постного масла, картошки, много ещё чего, но про деньги молчали годами. Они выжили в ту зиму, самую голодную из военных и послевоенных зим.
Потом станет легче. Потом будет папа. Он придёт на тридцать три года.
8
А пока всё у них с твоей будущей мамой идёт по накатанной, как у людей: танцульки в папины увольнения, тёплая компания из бравых курсантов – завтрашних лётчиков и барышень – маминых подруг. Посиделки в бедном доме на отшибе. Гитара, патефон. Чай с баранками.
Учёба шла к концу. Папа предложил пожениться.
Мама потом признается тебе, как она мечтала выскочить за военного: «Куплю пряников, сколько захочу». Ей было восемнадцать.
Бабушка усадила папу за стол. «Аркаша, я тебе должна кое-что рассказать про Ирочкиного отца».
Папа пожал плечами. Ему было двадцать два.
По старинной советской военной традиции, папа обязан представить невесту пред светлы очи отца-командира. Для советского лётчика невеста оказалась неправильная, с червоточиной.
Через пару дней после рандеву твоего папу вызовет начальник особого отдела училища. Идёт 1950-й год.
«Слушай, не делай глупости. Тебе что, других девок мало? Ты хороший лётчик, коммунист, из рабочей семьи. Зачем тебе это отребье? Хорош советский лётчик, у которого тесть работал на фашистов. Подумай хорошенько».
Из Лётной книжки майора Кандаурова:
Краткая лётная характеристика по окончании училища «Летает хорошо. Лётную практику усваивает легко. В полётах инициативен. При большой нагрузке в полётах утомления не наблюдалось. Незначительные перерывы в лётной практике на качестве полётов не сказываются. Осмотрительность на земле и в воздухе хорошая».
Папа осмотрелся, подумал – и женился.
9
Родина не простит ему этого никогда. Сначала она отправит его в Узбекистан, а потом – без передышки – в Туркмению.

От жары в кабине МИГа будет темнеть в глазах, а соль от пота будет белыми пятнами проступать на кожаной лётной куртке. Жить поначалу придётся в бараке. Зимой непролазная грязь, летом гнус и зной под пятьдесят.
В таких гарнизонах была принята ротация: пилотов и технарей меняли каждые три-четыре года, отправляя их отдышаться в Группы войск за границу, в Прибалтику или в среднюю полосу.
Папу продержат в Туркмении четырнадцать лет.
В те времена в Афганистане правил король по имени Захир-шах, который, судя по его намерениям всячески крепить дружбу с большим северным соседом, был мудр и дальновиден. Король хотел покупать советские самолёты, но его подданные не умели летать.
Однажды папа придёт с полётов и возбуждённым шёпотом поведает маме, что ему и некоторым другим лётчикам предлагают на год отправиться без семей в Афганистан в качестве инструкторов. Выбрали наш гарнизон, потому что лётчики к афганской погоде привычные, и от семей недалеко.
«Ирка, надо рискнуть. Двойные оклады, год за два. Потерпим годик, что же делать. Откажешься, потом уж не предложат». Совещались полночи.
Утром папа пойдёт соглашаться. Пряча глаза, командир промямлит, что папина кандидатура больше не рассматривается.
В 1964 году его в чине майора на должности командира эскадрильи вызовет на беседу боевой генерал армии Иван Федюнинский, командующий войсками Туркестанского военного округа, снискавший если не славу, то уж точно популярность следующими своими словами: «Что за офицер пошёл? Ну, выпил ты бутылку. Ну, в конце концов – вторую, и всё, хватит, остановись».
«Мы знаем, у тебя тесть в Америке. С таким тестем ты выше не продвинешься. Об академии забудь. Комэска – твой потолок. Смотри сам».
Папа смотрел: тот, кого он учил летать, вернулся после академии папиным начальником.
Потом папа будет частенько говорить тебе: «Саня, это тебе не академия, здесь соображать надо».
Полк будет готовиться к переходу на сверхзвук, папа пожалуется на головокружение и уйдёт. Задерживать его не станут. Помогут и пустынные «год за полтора»: в тридцать пять он заработает пенсию. Только он хотел не пенсию. Как все пилоты, он больше всего на свете хотел летать.
Ты родишься в день папиного двадцатитрёхлетия.
Вот твой папа бегает по каршинскому аэродрому:
«Сын родился!»
«Надо же, как Ирка подгадала. С тебя причитается».
Ирке только что стукнуло девятнадцать.
10
Они будут убивать его за непослушание, а он – воспитанный своим жестоким временем и своим жестоким отцом – не будет даже догадываться об этом.
Ранним туркменским утром или глухой беспросветной комариной ночью он будет трястись в гарнизонном автобусе по дороге на лётное поле, запрашивать разрешение на взлёт, уходить в зону, прыгать с парашютом и катапультироваться, а она – суровая его родина – не будет не то, что этого не замечать – она не будет даже знать о его существовании.

О нём будут помнить только армейские чекисты – эти ничему иному не наученные как будто нарочно отбракованные особи человеческого стада.
«Ты зачем тут подслушиваешь? Тебя же подглядывать сюда поставили».
Ты вспомнишь об этом, когда подполковником вместе с товарищем Юрой Кошкиным будешь переводить брифинги для натовцев на полигоне под Львовом, и местный особист в служебном раже попросит у командующего учениями генерала Генералова разрешения посидеть, пригнувшись, в окопе, когда мимо будут проходить иностранцы.
«Это ещё зачем?» – изумится ко всему привыкший генерал.
«Может, чего услышу».
«А ты каким иностранным языком владеешь, полковник», полюбопытствует генерал. Тот потупится. Хотел, как лучше…
Когда папа пойдёт на вынужденную посадку в каракумских песках, чекисты потом полетят посмотреть, куда направлен нос чудом не ушедшего навсегда в зыбучие пески самолета: не в сторону ли границы.
Они будут унижать его ровно с того момента, когда он женится на твоей маме, и они с мамой дадут тебе жизнь, и так до его последнего вздоха.
Это они будут есть за него, пить за него, загорать на лежаках возле тёплого моря, гладить по головкам внуков, до которых он не доживёт, путешествовать за него по землям, которые он никогда не увидит, самозабвенно лечиться, привычно топтаться с бутылкой коньяка в очереди за бесплатной путёвкой, говорить тосты, справлять юбилеи, всё – за него.
Он будет летать над пустыней четырнадцать лет, днём и ночью. Потом он будет приходить домой, курить в темноте и о чём-то своём думать. Потом его выбросят на пенсию, и немного погодя он узнает от мамы, что он – нищий, а дом держится исключительно на посылках из Америки.
«Ирочка, постыдилась бы», удивится твоя бабушка бесстрашно и тут же поплатится за эту свою дерзость.
Он только пожмёт плечами и отправится на очередное дежурство на Наримановский аэродром, где ревут самолёты, а он всё курит и разговаривает с пилотами по радио, разрешая им посадку или отправляя их на запасной аэродром в Минводы, он будет уходить в ночь или рано утром в любую погоду, а ты будешь ждать, когда задребезжит дверной звонок, и ты побежишь открывать и увидишь на пороге папу – бледного, какого-то чужого после ночного дежурства, с чёрными кругами под глазами, но всегда улыбающегося.
«Саня, я сегодня пораньше», и снимает синюю фуражку ГВФ, а от неё на лбу – тёмная борозда.
11
Ты пересечёшься с папой на тридцать лет.
Вы распрощаетесь в январе 1983 года на утопающем в грязи астраханском кладбище. Было место в сухом центре, но выбрали могилу на отшибе, у дороги, чтобы уже почти не ходящая мама могла навещать. Она будет там только однажды, а после уедет к тебе в Москву и больше никогда не вернётся в этот город.
Врачи астраханской железнодорожной больницы сказали, что сердце. Может быть. Но, скорее всего, он просто смертельно устал: количество худо-бедно устроившихся на его шее людей увеличилось с Юркиной скоропостижной женитьбой ещё и на невестку, чрезвычайно воодушевлённую переездом из своей трущобы в нашу хрущобу и обретением перспективного американского деда, а потом и на их дочку.


