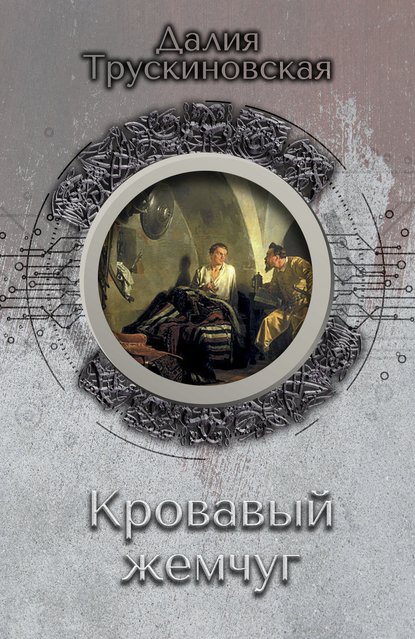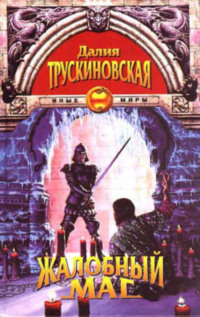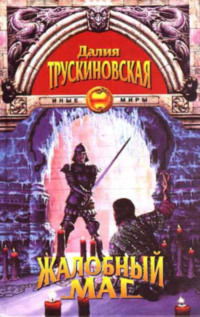Полная версия
Персидский джид

Далия Трускиновская
Персидский джид
– Ступайте все, – велел Башмаков подьячему и писцам. – Ступайте с Богом…
Сам вошел в соседний покой и сел за стол, по обоим концам которого высились стопки книг, а посередке лежали бумаги.
Заглянул надежный человек, старый истопник Ивашка. Он порой ночевал прямо в приказе, чтобы с утра, как печи топить, сразу и браться за дело. Тем более – в весеннюю распутицу, что затянулась более положенного, ему это было удобно – нигде не застрянешь, не увязнешь, а в самый срок за работу возьмешься.
А тепло в приказе требовалось спозаранку – государь Алексей Михайлович вставал рано, и поди знай, когда вздумает заглянуть с новой затеей. Здесь у него и свой стол с особым письменным прибором, здесь ему сподручно и доклады слушать, и диктовать, и писать.
Может, сперва государь и сам полагал, что Приказ тайных дел нужен ему для заботы о любимцах – соколах и кречетах, которых было у него более трех тысяч, и, соответственно, о сокольниках и кречетниках – их, пожалуй, душ двести уже набралось. Но понемногу стали пристегиваться и всякие дополнительные заботы – Алексей Михайлович стал вести через приказ свою личную переписку, особенно по дипломатическим и военным делам, приказные подьячие рассылали грамоты воеводам – кому с выговором, кому с наказом; коли нужно было присмотреть за кем-то подозрительным, докопаться до правды в тайной кухне иных приказов – и это служащим Башмакова доверяли.
Понемногу дел прибавлялось. Всякая мысль государя прежде всего спускалась в Приказ тайных дел. Были среди тех мыслей забавные – вести, скажем, дневальную книгу, где каждый день делать записи о погоде. Озаботили также подьячих надзором за изготовлением лекарств, что казалось нелепицей лишь на первый взгляд – те, кто вернулся с польской войны, рассказывали, как в тех краях научились травить ядами неугодных людишек, и такое трофейное искусство может расцвести и на Москве. Вскоре именно сюда стали стекаться сведения о хлебных запасах в государственных хранилищах, об урожаях, о хлебном жалованье служилым людям, о состоянии крепостей, о пушках и боеприпасах, о количестве городовых дворян, детей боярских, стольников, стряпчих. Да и не только это…
Увидев, что глава Приказа тайных дел все еще не собрался домой, Ивашка громко вздохнул.
– Вот то-то и оно, – сказал на этот вздох Башмаков.
И вздох, и унылый ответ подразумевали вот что: дело, которое государь доверил Башмакову, с места пока не двигалось, хотя все его подчиненные трудились не покладая рук – вернее, можно было бы и пошутить «не покладая ушей», однако Дементию Миничу было не до шуток.
Опять объявились воровские деньги…
Опять на торгу стоял шум и ор, опять волокли ни в чем не повинных людей в Земский приказ. А ночные обходы Москвы, когда у всякого двора башмаковские дозоры останавливаются и со всем тщанием слушают – не раздаются ли мерные удары, не чеканят ли преступники, сидя в погребах, воровских денег, опять оказались бесполезны.
И Башмаков отчетливо вспомнил, с чего все началось. Он увидел перед собой те низкие потолки, тот мрачноватый угол, откуда глядело на него оживленное светом единственной свечи, восторженное, чуть запрокинутое из-за невеликого роста, лицо, он услышал звонкий и радостный голос, перешибающий все возражения своей просветленной правотой.
В год семь тысяч сто шестьдесят второй от сотворения мира…
– Коли не нарушать нашего древнего благочестия, то и надобно считать от сотворения мира, а во всех странах, даже и в Польше, считают от Рождества Христова, – сказал государев любимец боярин Ртищев. – Как помыслишь, чем бы Богу угодить, так оно и приходит на ум: может, неверно считаем, за то и карает он нас?
– А коли от Рождества Христова, то который год у нас теперь получается? – спросил Перфильев, пальцами ловко снимая нагар со свечи.
Они сидели в малой келейке Калязинской обители и коротали вечер. Места было мало, жить по обычаю не получалось, и ютились кое-как, и встречались по вечерам для бесед без чинов. Государь был с молодой женой и детьми, ближние люди развлекались, как умели, наперекор беде… Вместе сошлись Федор Михайлович Ртищев, молодой боярин, любимец государя, назначенный дядькой наследника, который пока не в дядьках нуждался, а в няньках и обильной молоком кормилице; возглавивший недавно образованный Приказ тайных дел дьяк Томила Перфильев; того же приказа подьячий Дементий Башмаков, из приближенной к Верху молодежи, на которую государь возлагал особые надежды. Как многие приказные, он начал службу в шестнадцать лет и уже десятый год трудился исправно, а в последнее время и вовсе пошел в гору.
Боярин задумался. Любил он мудреные и с верой тесно связанные вопросы, потому, совершив умственное усилие, улыбнулся.
– Одна тысяча шестьсот пятьдесят четвертый год с того дня пошел, – объявил с тихой радостью.
А чему радоваться, коли в этот год такие напасти на государство разом рухнули? Народ возмутился против патриарха с его новшествами и поднял бунт, тут же – моровое поветрие, чума пол-Москвы выкосила, Кремль – и тот сделался пуст. Когда еще поветрие стихнет и можно станет туда вернуться? Сиди вот в монастырской келье, тоскуй…
Но было и светлое. У государя сын-наследник родился, Алексей Алексеевич.
Расти бы ему в отчем доме, а не в Калязинской обители, куда государь с ближними людьми спрятался от поветрия!
Так думал Башмаков, сильно беспокоясь об оставленных на Москве близких. И, не вмешиваясь в разговор, внимательно следил, о чем толкуют старшие (Ртищев был почти что одних с ним лет, да только Ртищев-то – боярин, а Башмаков-то – подьячий…).
– Война затянется, так все воеводы говорят, и денег не хватает, – говорил Ртищев. – Казна пуста и платить ратным людям жалованье не из чего. Да тут еще и поветрие! Сколько после него денег потребуется! А почему их у нас нет? А все потому, что у нас всякая полушка – серебряная! В каком еще государстве серебро на мелочь изводят?
Башмаков не совсем понимал, отчего война должна затянуться – начало было победное, Смоленск государь вернул, но Ртищев, возможно, знал поболее подьячего.
– Медные деньги хочешь чеканить, Федор Михайлович? – спросил Перфильев.
Башмаков насторожился – слух о том прошел, но напрямую спрашивать, о чем Ртищев с государем тайно совещаются, никто не смел.
– На то государева воля. А дело доходное!
– Каким же образом?
Молодой боярин оживился, опять улыбнулся, потянулся через стол к дьяку.
– А сам посуди! Медь серебра во сколько дешевле? Не трудись считать, уже посчитано – в шестьдесят раз! И серебро-то у нас привозное, сам знаешь – на ефимках голландское клеймо своим забиваем!
Он произнес это так, словно спокон веку из-за того и страдали, что ефимки клеймить приходилось. Но Башмаков и Перфильев не хуже него знали, что только в этом году и затеяли чужую серебряную монету перебивать. С ефимков (мало кто мог с первого захода правильно выговорить «иоахимсталер», и, правду говоря, даже не пытались, но коли поляки и литва зовут его попросту «иоахимик», – быть ему ефимком!) сбивали исконное изображение – кресты, либо льва, либо мужика, что опирается на расписной щит, – и набивали свое: государя на коне и двуглавого орла на обороте. Использовали же при этом привычный чекан для копеек.
Государству не хватало денег, и ефимки, которыми уже давно платили жалованье иностранцам, были преобразованы в рубли, да только полноценными рублями все равно не стали – одна такая перебитая монета весила меньше, чем сто серебряных копеек вместе взятых, и из-за этого было немало мороки. Цена ефимку была шестьдесят четыре копейки, хотя и велено было считать его рублем. А еще появились полуполтины – разрубленные на четыре части и опять же перебитые талеры, которым полагалось стоить двадцать пять копеек, на деле же они стоили шестнадцать.
Башмаков подумал, что во всей этой кутерьме только медной монеты и недоставало. Ртищев словно услышал – продолжал с восторгом:
– А на медных копейках и денежках ставить можно особое клеймо, чтобы их в цене с серебряными уравнять.
– Народишко сомневаться будет, – разумно заметил дьяк. – Такого не бывало еще, чтобы медь и серебро – в одной цене. И медных денег у нас не видано. Кожаные – те бывали!
– Я ж говорю – клеймо будет!
Перфильев невольно вздохнул – в невысоком узкоплечем боярине такой огонь пылал, такая жажда благого дела, что поди с ним поспорь! Мудрено спорить с человеком, который, летя душой к великому благу, презирает колдобины под ногами.
– Клеймо подделать нетрудно.
– Да что ты мне перечишь! Вон государь – и тот со мной соглашается! И еще человек есть, что на моей стороне, – Василий Шорин, слыхал про такого?
– Слыхал. Это который от Соляного бунта разорился? – неодобрительно спросил Перфильев.
И Башмаков подумал, что дьяку, конечно же, виднее – он уже тогда был приближен к Верху и многое разумел. Дьяком в государевом имени Перфильев сделался после того, как съездил с тайным государевым поручением на Украину, к Богдану Хмельницкому, а это было дело непростое, коли после него о войне заговорили.
– Разорился, да снова нажился, богатейший купчина! Дважды в самом Архангельске таможенным головой был. И государь его уважает.
По лицу Ртищева видно было – в сподвижника своего он верит не менее, чем в чудотворный образ.
– Горяч ты, Федор Михайлович, и о людях больно хорошо думаешь, – сказал, вставая, Перфильев. – Тебе бы все с книжниками о божественном толковать, они – люди святые, чистой жизни, им пакости на ум нейдут. А что на ум купчишке взойдет, когда он эти денежки с клеймом в руки возьмет? Что таких же он у себя в подклете наваляет хоть мешок! Этого ты в расчет не брал, когда государю про медные деньги толковал?
– Наказывать будем! – воскликнул кроткий, чем и полюбился государю, Ртищев.
– Ты сперва поймай, а потом уж наказывай.
Башмаков молча согласился с Перфильевым. Умница Ртищев, паря над грешной землей в облаках, много чего понапридумает, а расхлебывать кому?
Удивило его тогда, что государь так легко позволил себя уговорить. Впоследствии выяснилось – на стороне Ртищева оказался государев тесть, боярин Илья Милославский. И был-таки пророком Томила Перфильев – оставив четыре года спустя свою должность Башмакову, он прямо и грубо сказал:
– Знаешь, Демушка, поговорку про дурня, который камень в воду бросил, а семеро умных вытащить не могут? Вот этот камень тебе на долю и достался…
Он ничего не смог поделать с изготовителями воровских денег, которых с каждым годом появлялось все больше и больше. Выловленных жестоко карали, уже с четыре сотни наказанных набралось, но даже страшная казнь, заливание расплавленного свинца в отверстый рот, не пресекала воровства.
Точно так же оказался бессилен перед этой напастью Башмаков. За те три года, что возглавлял он Приказ тайных дел, будучи дьяком в государевом имени, заразу истребить не удалось.
И он даже догадывался – почему…
* * *– Это что? – в ужасе спросил Данила.
– А что? – не понял Богдаш.
Данила всю жизнь полагал, будто дорога – ровное место, по которому удобно ходить пешком или ехать на лошади, причем желательно – наметом, машистой рысью или хоть грунью. Дорога может быть узкой, может быть топкой, может иметь иные мелкие недостатки, но… но!..
Тут же перед ним было нечто невероятное – словно бы человек, задумав проложить через лес путь, вырубил в нужном направлении деревья и получил просеку сажени в две шириной, после чего у него нашлось иное дело. Пусть пни корчует тот, кому это больше нужно, – решил человек, вот пни и остались, торча с удивительной густотой. Пешком по такой дороженьке идти – и то, петляя, взмокнешь, а на коне – так и вовсе все на свете проклянешь!
Желвак и не такое видывал, к пням отнесся спокойно, был готов к тому, что продвижение сильно замедлится.
– Вот и такие дороги у нас в государстве водятся. Тут еще, слава Богу, сухо, – сказал он. – А коли болото? И гать по нему гнилая? Тут-то мы не пропадем, а на гнилой гати казенных коней погубили бы. Ничего – поедем себе шажочком!
– А как по гатям ездить? – спросил Данила.
– Да с грехом пополам! Тут мы в любом месте с коней сойти можем, а на гати лучше этого не делать, – неторопливо посылая коня вперед, принялся растолковывать Богдаш. – А она, подлая, и по двенадцать верст порой тянется! А то еще мосты есть. Коня по такому мосту лучше всего в поводу вести – бревна толстые, да не обтесаны, соскользнет конская нога – и наплачешься ты с хромой скотиной! А то еще, бывает, бревнышки плохо промеж собой связаны, как раз под тяжестью и разойдутся. И ухнешь вместе с конем вниз!
– А может, их лесные налетчики нарочно портят?
– Гляди ты, догадливый!
До Казани оставалось еще два дня пути. Еще не высохшего после весенней распутицы, еще не дающего пустить коней во весь мах.
Данилу впервые отправили в такой дальний и длительный поход, посчитав, что пора детинушке и к настоящему делу привыкать. Однако грамоту казанскому воеводе вез за пазухой Богдаш, все деньги и подорожные у него были, особое задание в Приказе тайных дел тоже он получал.
Данила только и знал сперва, что по сторонам головой вертеть. Первое – кресты заметил. Кресты те были высокие, грубо вытесанные, стояли на ровном месте у обочин прямо посреди леса. Никакого знака – кто, мол, лежит, – не имелось.
– Прости им, Господи, все их прегрешения, вольные и невольные, даруй им царствие небесное, – быстро сказал Богдаш, когда они впервые увидели такой лесной крест. И мелко, неканонически перекрестился.
– Тут кого-то схоронили? – удивился Данила.
– Ты все про лесных налетчиков спрашивал – ну так тех, кого они при налете убили, так-то в лесу и хоронят.
– Кто?
– Да сами налетчики. Потом знакомому попу панихиду закажут – и ладно. И на том спасибо.
– Точно ли закажут?
– Они, Данила, про себя знают, что сами так-то в лесу падут. И вдруг никого не окажется, чтобы по ним панихиду оплатить? Так они вроде бы с Господом договариваются…
– Умные!
– Эх!.. – Богдаш, что с ним бывало крайне редко, затосковал. – Ведь и нас когда-нибудь под таким крестом упокоют, Данила…
Однако с Божьей помощью доехали. Выбрались на волжский берег и придержали коней, переводя с облегчением дух. С налетчиками разминулись, в трясину не провалились, кони целы, сами целы – чего еще?!
– Слава те Господи – Казань! – сказал Богдаш и перекрестился. – Ты тут, поди, и не бывал?
– Куда мне! – отвечал Данила, глядя на город, что из-за реки казался темным пятном, и лишь высокие кремлевские стены поражали белизной.
Уж на что неутомим был Голован – а шел под всадником, все ниже опуская голову. Что путь долгий – это еще полбеды, а та беда – что велено было ехать, не дожидаясь, пока дороги просохнут. Вроде уж и не распутица, и солнце пригревает, а все равно – нелегко дался коням поход.
– А я уж четвертый раз! Ты за меня держись, в посад без меня не ходи, – напомнил Богдаш. – Казань-то город русский, а с татарами там такая штука – не сразу их и признаешь.
– Как же татарина не признать? – удивился Данила, видывавший татар на Москве нередко.
– А вот и увидишь, – Богдаш усмехнулся, видать, желал полностью насладиться изумлением Данилы, угодившего в очередную нелепицу.
Спустясь к переправе, государевы конюхи дождались парома и засветло успели переправиться через Казанку, оттуда же дорога поднималась вверх – к огороженному рубленой стеной посаду.
– Что за притча! – возмутился Богдан, глядя на светлые, не успевшие потемнеть бревна. – Раньше до Тайницских ворот вдоль стены ехали, а теперь они в посаде оказались! Эк тут все разрослось!
– А что, Богдаш, иными воротами никак нельзя? – спросил Данила.
– А эти, как из Москвы ехать, самые подходящие. Можно бы, конечно… да и там, поди, посада не миновать… ну, все я про них отпою…
Раньше Тайницские ворота были весьма удобны, чтобы выпускать гонцов, – конь сразу брал разбег. А вот к ним иначе, чем шагом, и не подняться было. Кремль стоял на крутизне. Ворча и сокрушаясь по былым временам, когда не приходилось протискиваться узкими улочками посада, покрикивая на праздный люд, Желвак с Данилой добрались до ворот и, перекрестясь на надвратный образ Николы Угодника, въехали в Казанский кремль.
Прямо от Тайницкой башни начиналась пронизывающая кремль Большая улица.
– Гляди ты! – удивился Данила. – Из конца в конец, что ли, ведет?
– До самых Спасских ворот.
– Ишь, и у них Спасские – как у нас!
Богдаш задрал голову и перекрестился на купола Благовещенского собора, то же сделал и Данила.
– Глянь ты, – продолжал недоумевать он. – И церковь не хуже московской…
– Чего ж ей хуже быть – все построено недавно, в ветхость еще не пришло. А вон по правую руку – пушечный двор. А вон дальше – Троицкая обитель.
Миновав обитель со всем ее подворьем и пристройками, сразу за воеводским домом конюхи повернули налево.
Перед съезжей избой была невеликая площадь, где, осаждая крыльцо, толпился пеший народ, как видно, искавший благосклонности здешних подьячих в важных делах: иной имел при себе лукошко с живыми утками, иной – мужика, сгорбившегося под взваленной на плечо говяжьей четвертью в рогоже. И это также напомнило Даниле Москву.
– Конным не велено! – крикнул с крыльца узкобородый, остроносый, по виду и громогласию – земский пристав.
– Из Москвы с государевой грамотой! – не менее зычно отвечал Богдан. – Поди воеводе скажи!
Толпа притихла. Узкобородый кивнул и исчез за дверью.
– Ты жди, – велел Богдан. – А я грамоту передам и тотчас назад буду. Наше дело малое, с нас тут спрос невелик. С нас спрос уже дома будет…
Он спешился, снял тяжелую епанчу и перебросил ее через седло, передал все поводья Даниле, расправил плечи, одернул на себе армяк, поправил шапку, подкрутил усы и, сочтя, что теперь уж не уронит достоинства государева гонца, независимо и споро стал всходить на высокое крыльцо. Кого-то, чтоб не мешал продвижению, и в бок кулаком двинул, да так, что мужик поперек перил повис. И кулак хорош, и знает Богдашка, куда бить…
Данила же остался ждать, не сходя с Голована и имея в руках поводья еще троих – Богданова Полкана и двух заводных – Буянки и Алибея. Кони сошлись мордой к морде и были до того измучены долгой дорогой, что даже не пытались ссориться, доказывая мелкими пакостями, вроде укусов за шею, кто в этом их сегодняшнем сборище главный.
Исходя из разумного правила «бойся свинью – спереди, коня – сзади, а бабу – со всех сторон», люди высвободили сколько могли места вокруг четырех конских крупов. Данила, похожий в бурой епанче на прошлогоднюю копну сена, поглядывал на толпу сверху, размышляя о своем. Прежде всего – они с Богданом собирались сделать в Казани кое-какие закупки. Во-вторых – не мешало бы и в баню с дороги. В-третьих, воевода мог оказаться добр и дать им побольше времени на отдых, а мог и завтра же утром спровадить обратно, чего Даниле вовсе не хотелось. Но главное – то поручение, что передал Богдану подьячий (Башмаков был на тот час занят). Желвак по своему обыкновению прямо ничего не растолковал, а лишь дразнился.
Узкобородый пристав вновь вышел на крыльцо и велел расходиться – челобитных сегодня более принимать не будут. Народ постоял еще немного, словно желая убедиться, что приказные не морочат простым людям голову. И потянулся понемногу к Спасским воротам, как самым ближним. Последним ушел матерый купчина, имевший при себе мужика с говяжьей четвертью. Ругался он такими неистовыми словами, что Данила, многого нахватавшийся в конюшнях, и то подивился.
Пока он провожал взглядом ругателя, на крыльцо вышел Богдаш, а с ним – парнишка лет четырнадцати, в одной холщовой рубахе и полосатых портках.
– Слезай, Данила! – велел он, спускаясь. – Сейчас коней поставим, расседлаем, приберем. Куда вести-то, малый? На боярское подворье?
– Нет, не туда, – совсем тихо отвечал парнишка. – А через дорогу от подворья. Там у нас большая конюшня в прошлом году срублена.
– Большая, говоришь? Уж не более ли, чем наша Аргамачья? – весело спросил конюх, вызывая отрока на спор, но тот, видать, боялся противоречить государевым гонцам.
Коней Богдан и Данила обрядили сами. Во-первых, знали это дело лучше любого из здешних конюхов, а во-вторых – хорош же тот гонец, который коня чужим рукам доверяет! И еще одно – тут не было принято мыть лошадей, не то что в Аргамачьих конюшнях, и когда Богдан потребовал подогретой воды, едва не дошло до кулаков.
– Мы и печей-то по летнему времени не топим, какая тебе вода?!
– Государевым коням ущерб нанести желаешь, вор, пес, тать?!
– Ну так сгоняй на Казанку да и выкупай!
Речка Казанка была тут же – если проехать Большой улицей, да опять через Тайницские ворота, да вниз и прямо, так и версты не наберется. Но Богдан уперся на своем и нескольких бадеек тепловатой воды добился.
Вымыть коней было необходимо по нескольким причинам. Первая – в пути этого сделать не получалось, общество конюхам сопутствовало разное, бахматы могли нахвататься вшей. В такой гриве, как у Голована, эту нечисть заметишь лишь тогда, когда грива от их суеты сама шевелиться начнет. На Аргамачьих конюшнях конской вшивости не допускали. Сам у себя в башке хоть на мясо эту дрянь разводи, а государевы кони должны быть чисты, как младенцы. Затем – бывали случаи, что конюхи, возвратившись, обнаруживали у бахматов чесотку и долго лечили страдальцев горячим дегтем. И третье – мокрец, который поражал задние конские ноги именно при странствиях по грязным и сырым дорогам. Недосмотришь – намучаешься с язвами, будешь их и деревянным маслом мазать, и травными настоями обмывать…
– Ну вот, полдела с рук сбыли, теперь иным займемся, – сказал он, убедившись, что кони стоят мирно и жуют овес. – Пошли со двора, прогуляемся, может, и на торг успеем.
Данила впервые проделал столь долгий путь. Когда соскочил с коня – ноги были как не свои. И больше всего хотелось ему, перекусив, прилечь. Но Желвак, высоко держа звание государева гонца, и бани потребовал, и ужина, и всем видом давал понять, что так просто не угомонится. Данила вдохнул, резко выдохнул и расправил плечи. Отставать от старшего товарища он никак не мог. И гордость не позволяла, и выслушивать язвительные речи не хотелось.
Они вышли на Большую улицу неторопливо, малость вразвалочку, как люди, сделавшие трудное дело, несколько дней не сходившие с седла и теперь получившие в награду наслаждение неторопливостью.
– Гостиный двор тут рядом, сразу за воротами, у Ивановского монастыря. Может, еще успеем на торг, а нет – завтра с утра. Отсюда сапог привезти не худо. На Москве таких не тачают. Ты жениться-то думаешь, свет? Вон в каких под венец идти! Глянь-ка!
Он указал на мимоидущего молодца в синей однорядке и действительно выдающихся сапогах. Были они узорными, завитки из цветной кожи, алой, желтой, синей и коричневой, плотно состыковывались, от носка до колена образуя крупный и нарядный узор.
– То-то девки залюбуются! – продолжал Богдан. – То-то перешептываться будут!
И подтолкнул Данилу локотком в бок.
Забыв наставления старшего товарища, Данила шагнул наперерез молодцу в однорядке.
– Бог в помощь!.. – начал было он, желая всего-навсего спросить, где парень купил такое чудо. Но высокий, русоволосый, светлобородый, сероглазый молодец отвечал сердито и невнятно. И даже отшатнулся, всем видом показывая, что с людьми, говорящими по-русски, беседы у него не будет.
– Стой! – Богдан удержал за плечо Данилу, уже собравшегося в два прыжка нагнать мимохожего молодца. – Хотел на татар поглядеть? Ну – вот тебе татарин! Он самый и есть!
– Да ты что, Богдаш? Татаре – черные, узкоглазые! – напомнил Данила, тут же вспомнил Семейку, который был хоть и темен лицом, однако волосы имел русые, и задумался, вызывая в памяти другие знакомые татарские лица.
– А здешние – вот такие. От своих не отличить.
– Гляди ты… – проворчал Данила. – И одет по-нашему. Что – и девки на наш лад одеваются?
– По-всякому. Ты на голову смотри. Если бархатная шапочка, по переду цветы жемчугом выложены, значит – татарка.
Данила немедленно завертел головой в поисках шапочки, но не нашел.
– И не томись! – усмехнулся Богдан. – И этот-то, который от тебя шарахнулся, в кремле – редкий гость, видать, по очень важному делу зашел, а девки и подавно сюда носу не кажут. За сто лет до нас, когда Казань взяли, царь запретил татарам селиться в кремле и посаде. Они по сей день сюда только за делом приходят. Коли тебе так уж девка нужна – у воеводы высмотришь. Они нас с тобой уже приметили! Видал – сразу у них дела какие-то возле конюшни сыскались…
Богдан знал, что говорит.
В последнее время он как-то неожиданно стал заниматься воспитанием Данилы, причем делал это от всей души. Начав с приемов кулачного боя, он и до того додумался, что стал брать парня с собой, когда навещал одну молодую вдову. Вдове было велено позвать красивую подружку, она так и поступила, но вмешалась в это дело и третья женка… И неожиданно для себя Данила стал числиться в разлюбезных молодцах. И даже несколько по такому случаю зазнался. Хотя было все это дело – проще некуда, и, если бы конюхи дали себе труд вдуматься в причуды бабьих склонностей, то немало бы посмеялись.