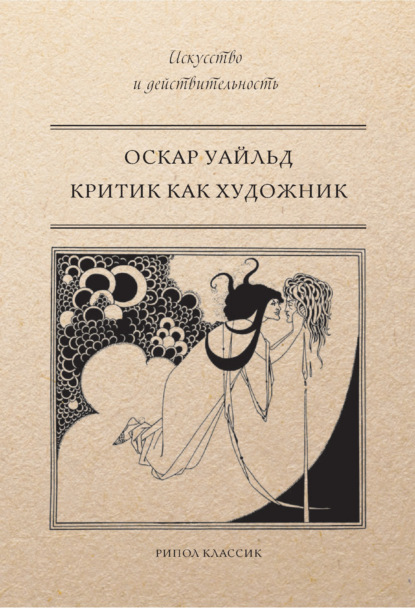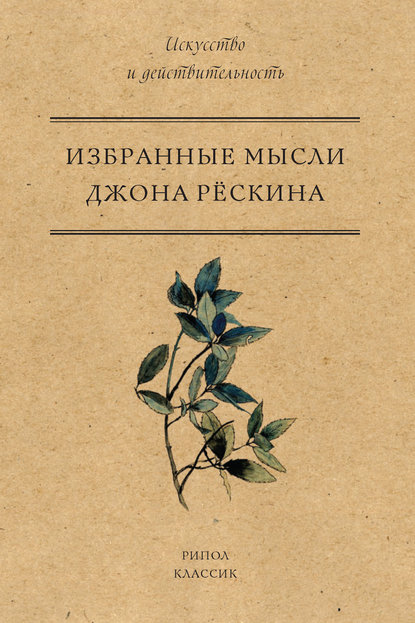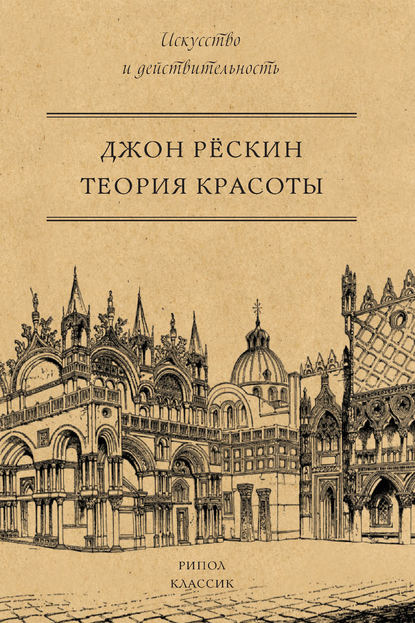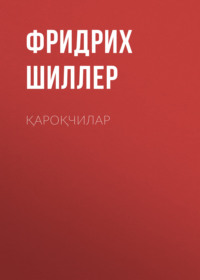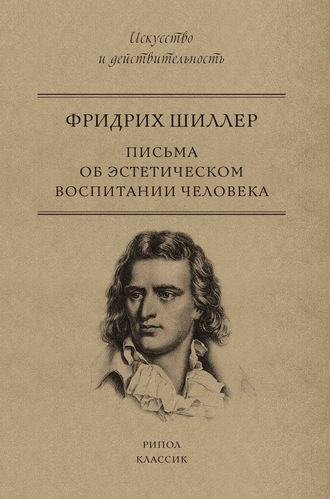
Полная версия
Письма об эстетическом воспитании человека
Можем ли мы удивляться пренебрежению, с которым относятся к прочим душевным способностям, если общество делает должность мерилом человека, если оно чтит в одном из своих граждан лишь память, в другом лишь рассудок, способный к счету, в третьем лишь механическую ловкость; если оно здесь, оставаясь равнодушным к характеру, ищет лишь знания, а там, напротив, прощает величайшее омрачение рассудка ради духа порядка и законного образа действий; если оно в той же мере, в какой оно снисходительно к экстенсивности, стремится к грубой интенсивности этих отдельных умений субъекта, – удивительно ли, что все другие способности запускаются ради того, чтобы воспитать единственно ту способность, которая дает почести и награды? Конечно, мы знаем, что мощный гений не ограничивает круга своей деятельности профессией, но посредственный талант отдает тому занятию, которое досталось ему в удел, всю скудную сумму своей силы, и только недюжинная голова может, без ущерба для своей профессии, предаваться любительским занятиям. Сверх того для государства всегда дурная рекомендация, если силы превышают данное поручение или если высшие духовные потребности талантливого человека соперничают с его должностью. Государство столь ревниво следит за тем, чтобы слуги его были его полной собственностью, что оно охотнее – и кто может в этом упрекнуть его? – согласится разделять своего служителя с Венерой-Кифереей, чем с Венерой-Уранией.
Таким-то образом постепенно уничтожается отдельная конкретная жизнь ради того, чтобы абстракция целого могла поддержать свое скудное существование, и государство вечно остается чуждым своим гражданам, ибо чувство нигде его не может найти. Правящая часть под конец совершенно теряет из виду разнообразие граждан, ибо она принуждена – ради удобства – классифицировать их и иметь дело с людьми только как с представителями, так сказать, получать их из вторых рук, то есть смешивать людей с чисто рассудочной стряпней, и управляемый не может не принимать с холодностью законы, которые так мало приспособлены к нему самому. В конце концов положительное общество, пресыщенное тем, что ему приходится поддерживать связь, которую государство нисколько ему не облегчает, распадается в природно-нравственное состояние (такова уже давно судьба большинства европейских государств), где властью является только одна партия, ненавидимая и обманываемая теми, кто делает ее необходимою, и уважаемая лишь теми, кто может обойтись без нее. Могло ли человечество пойти по иному пути, чем по тому, по которому оно в действительности пошло, если принять в расчет эту двойную силу, которая давила на него снаружи и изнутри? Дух умозрения стремился в мире идей к вечным приобретениям, но в это время он стал чужаком в чувственном мире и потерял содержание ради формы. Дух практической деятельности, ограниченный однообразным кругом объектов, а в нем еще более ограниченный формулами, должен был потерять из виду свободное целое и оскудеть вместе со своей сферою. Подобно тому как дух умозрения подвержен искушению придать действительности формы мыслимого и субъективным условиям своей способности представления – значение конститутивных законов бытия предметов, так дух практики кидается в противоположную крайность, то есть оценивает всякий опыт по одному лишь отрывку опыта и стремится приспособить правила своей деятельности ко всякой деятельности без различия. Первый должен был стать жертвой пустой изощренности, второй – педантичной ограниченности, ибо первый слишком возвышался над единичным, второй же стоял ниже уровня целого. Но вред этого направления духа не ограничился сферой знания и созидания, он был не менее заметен и на чувствах и действиях. Мы знаем, что степень восприимчивости духа зависит от живости, а объем – от богатства воображения. Но перевес аналитической способности по необходимости лишит воображение его силы и огня, а ее богатство пострадает от более ограниченной сферы объектов. Отвлеченный мыслитель потому обладает весьма часто холодным сердцем, что он расчленяет впечатления, которые способны тронуть душу только в их цельности. У практика очень часто узкое сердце, ибо его воображение, заключенное в однообразной сфере его занятий, не может приспособиться к чужому способу представления. Мне нужно было – по пути моего исследования – раскрыть вредное направление современности и его источники, не указывая на те выгоды, которыми природа возмещает вред. Я охотно, однако, признаюсь вам, что род никаким иным путем не мог совершенствоваться, как ни должны были пострадать и индивиды при этом раздроблении их существа. Греческий образец человечества представлял собою, бесспорно, высшую точку развития, на которой человечество не могло удержаться и над которой оно не могло возвыситься. Не могло удержаться, ибо рассудок, с накопившимся запасом знаний, неизбежно должен был отделиться от восприятия и непосредственного созерцания и стремиться к ясности понимания; но человечество не могло и подняться выше, ибо только определенная степень ясности может сосуществовать с определенной полнотой и определенным теплом. Греки достигли этой ступени, и если б они желали подняться на высшую ступень, то им пришлось бы, как нам, отказаться от цельности своего существа и преследовать истину по разрозненным путям.
Не было другого средства к развитию разнообразных способностей человека, кроме их противопоставления. Этот антагонизм сил представляет собой великое орудие культуры, но только лишь орудие, ибо, пока антагонизм существует, человек находится лишь на пути к культуре. Только благодаря тому, что отдельные силы в человеке обособляются и присваивают себе исключительное право на законодательство, они впадают в противоречие с предметной истиной и заставляют здравый смысл, обыкновенно лениво довольствующийся лишь внешностью явления, проникать в глубину объектов. Тем, что чистый рассудок присваивает себе авторитет в мире чувств, а эмпирический стремится к тому, чтобы подчинить первый условиям опыта, обе способности развиваются до полной зрелости и исчерпывают весь круг своих сфер. Тем, что воображение осмеливается здесь произвольно расчленить мировой порядок, оно принуждает разум подняться к высшим источникам познания и призвать на помощь против воображения закон необходимости.
Вследствие одностороннего пользования силами индивид неизбежно придет к заблуждению, но род – к истине. Мы придаем этой единичной силе как бы крылья и искусственно выводим ее далеко за пределы, которые как бы положены ей природою, только тем, что всю энергию своего духа сосредоточиваем в одном фокусе и стягиваем все наше существо в эту одну силу. Несомненно, что все человеческие индивиды в совокупности, со всей силою зрения, дарованного им природою, никогда не достигли бы того, чтобы выследить спутника Юпитера, которого открывает телескоп астронома; точно так же несомненно, что человеческая мысль никогда не представила бы анализа бесконечного или критики чистого разума без того, чтобы разум обособился в отдельных призванных к тому субъектах, отделился от всякой материи и самым упорным отвлечением обострил свой взор к восприятию безусловного. Но способен ли такой дух, как бы растворенный в чистом рассудке и в чистом созерцании, к замене строгих оков логики свободным полетом поэтического творчества и к точному и целомудренному восприятию индивидуального характера вещей? Здесь природа даже универсальному гению ставит границы, которых ему не перейти, а истина до тех пор будет иметь своих мучеников, пока философия будет усматривать свою благороднейшую задачу в том, чтобы искать способов избегнуть заблуждений. Сколько бы ни выигрывал мир, как целое, от этого раздельного развития человеческих сил, все же нельзя отрицать того, что индивиды, затронутые им, страдают под гнетом этой мировой цели. Гимнастические упражнения создают, правда, атлетическое тело, но красота создается лишь свободною и равномерною игрою членов. Точно так же напряжение отдельных духовных сил может создавать выдающихся людей, но только равномерное их сочетание создает людей счастливых и совершенных. И в каком отношении находились бы мы к прошлым и будущим мировым эпохам, если бы развитие человеческой природы требовало подобной жертвы? Мы были бы рабами человечества, мы в течение нескольких тысячелетий несли бы ради него труд рабов, и на нашей исковерканной природе запечатлелись бы постыдные следы этого рабства, дабы позднейшие поколения могли в блаженной праздности заботиться о своем нравственном здоровье и могла свободно расти и развиваться человеческая природа!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Медицина того времени являла собой пестрое и противоречивое сочетание предрассудков, унаследованных еще от Средневековья, попыток внедрения научно обоснованных методов (связанных с открытиями в сфере естествознания, химии, механики) и лечения шарлатанскими приемами, подобными магнетизму Месмера. Гипотеза о единстве и взаимовлиянии телесного и душевного начал в человеке, на которую опирался Шиллер в своей диссертации, не была абсолютно беспрецедентной – сходные мысли озвучивались сторонниками концепции витализма, в частности Георгом Эрнстом Шталем (1659–1734) и Альбрехтом фон Галлером (1708–1777), с чьими сочинениями Шиллер познакомился в процессе учебы.
2
Диссертация Шиллера была отправлена на доработку, а ее автор остался еще на один год в стенах ненавистного ему учебного заведения. Проявив отмеченное герцогом прилежание, Шиллер продолжил работу над выбранной темой и представил к защите в 1780 году сочинение «О взаимосвязи животной природы человека с его духовной природой». Как и предыдущее сочинение, эта диссертация имела куда большее значение для психологии и философии, чем для медицины. Потребовав на всякий случай от Шиллера еще одно научное исследование, о классификации видов лихорадки, герцог разрешил присвоить выпускнику желаемую степень.
3
Постоянные переезды, удручающее финансовое положение, необходимость работать на пределе возможностей, чтобы прокормить растущую семью, и прочие тяготы подорвали и без того слабое здоровье писателя, и он умер в возрасте сорока пяти лет от туберкулеза.
4
Недаром соотечественник Шиллера, поэт и музыкант Кристиан Ф.Д. Шубарт (1739–1791), служивший при дворе герцога Вюртембергского органистом, назвал учрежденную Карлом-Евгением академию «плантацией рабов». За критику правительства, сатиру на церковь и вольнодумные высказывания он был сначала изгнан из Вюртемберга, а затем заключен под стражу и провел в тюрьме десять лет.
5
В юности Шиллеру несколько раз поступали заказы на хвалебные или поздравительные стихотворения в честь Карла-Евгения и его любовницы, а затем морганатической супруги, графини Франциски фон Гогенгейм (1748–1811).
6
Наиболее распространенным жанром бюргерского театра была так называемая мещанская драма, зачастую лишенная глубокого конфликта или злободневной проблематики, но импонировавшая чувствительными и склонным к поверхностным аффектам зрителям, преимущественно мещанам среднего звена или состоятельным бюргерам. В этом жанре писали и Шиллер («Коварство и любовь»), и его предшественник в деле создания национального театра Лессинг («Мисс Сара Сампсон», «Эмилия Галотти»), однако их соперниками, куда более популярными у широкой публики, были А. В. Ифланд (1759–1814) и А. фон Коцебу (1761–1819), авторы сентиментальных драм и псевдоисторических пьес. С 1781 по 1808 год в Мангеймском театре зрители увидели 476 спектаклей по пьесам Ифланда и 1728 постановок по произведениям Коцебу, тогда как драмы Шиллера ставились всего 28 раз.
7
Поэт особенно болезненно воспринял казнь Людовика XVI. Свое понимание итога революции Шиллер с горечью и разочарованием выразил в одном из «Писем об эстетическом воспитании»: «… кажется, явилась физическая возможность возвести закон на трон, уважать, наконец, человека как самоцель и сделать истинную свободу основой политического союза. Тщетная надежда! Недостает моральной возможности, и благоприятный миг встречает невосприимчивое поколение» (Письмо 5).
8
«Воспитание рода человеческого» нельзя назвать трактатом в собственном смысле, это сто афористически лаконичных тезисов, в которых история религии рассматривается как история нравственного взросления человечества. Ветхий Завет символизирует период детства, нуждающегося в наставлениях и наказаниях; Новый Завет соответствует юности, демонстрирующей более высокую ступень духовной эволюции, но не ее вершину. Лессинг предрекает появление третьего завета и вступление человечества в новую, утопическую фазу, «время совершенства, когда человеку, по мере того как его рассудок будет все увереннее в своем лучшем будущем, не придется более искать в этом будущем мотивы своих поступков; тогда он будет творить добро ради самого добра, а не ради тех произвольных наград, которые за это обещаны» (п. 85). В «Письмах об эстетическом воспитании» Шиллера звучат сходные мысли, хотя их автор воздерживается от религиозного осмысления будущей утопии, предпочитая ее отвлеченно-идеалистическую трактовку.
9
Кристоф Мартин Виланд (1733–1813) – немецкий поэт, переводчик и критик. В его романе «Агатон» (1766–1767) изображен путь формирования совершенной, гармонически развитой личности, в которой чувственные порывы уравновешены голосом разума и добродетели. Подобный же идеал намечен в «Письмах…» Шиллера. Фактически, у Виланда Шиллер заимствовал концепцию «прекрасной души».
10
Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803) – видный представитель зрелого немецкого Просвещения, критик, историк культуры. В своем масштабном сочинении «К философии истории человечества» (1784–1791) Гердер обрисовывает картину духовной эволюции человека на протяжении ряда эпох. Развитие культуры ведет к стремительному прогрессу человечества, способного достичь состояния нравственного совершенства, которое автор называл «богоподобным». Кант подверг концепцию истории Гердера критике, но Шиллеру (пусть и убежденному кантианцу) некоторые элементы его теории показались созвучными его собственному представлению об эволюции человечества и торжестве «гуманности» как апофеоза истории.
11
Иоганн Винкельман (1717–1768) – немецкий историк и археолог, утверждавший превосходство античного искусства над всеми последующими этапами развития культуры. Исключительную роль Античности в формировании универсального эстетического идеала признает и Шиллер, на которого идеи Винкельмана оказали определенное влияние. Однако для Шиллера искусство древних греков является не столько ориентиром, сколько отправной точкой, тогда как как для Винкельмана это вершина всего мирового искусства и непревзойденный эталон.
12
В основе статьи лежал доклад, представленный поэтом на заседании Курпфальцского Немецкого общества. Двумя годами ранее Шиллер уже высказывал созвучные идеи о функциях театра и его роли в жизни общества в статье «О современном немецком театре» (1782).
13
И в этом Шиллер единодушен с Лессингом, утверждавшем в цикле критических статей «Гамбургская драматургия» (1767–1769): «Театр должен быть школой нравственности».
14
Сами письма, восстановленные по копиям и черновикам, были опубликованы в 1875 году под заглавием “Augustenburger Briefe”.
15
Кристиан Готфрид Кёрнер (1756–1831) был ближайшим другом Шиллера, его помощником и единомышленником, издателем первого собрания сочинений поэта на немецком языке. Знаменитая «Ода к радости» Шиллера, положенная на музыку Бетховеном, была написана по просьбе Кёрнера и посвящена ему же. Свои размышления о природе красоты и ее роли в формировании нравственного начала в человеке, сформулированные в письмах Кёрнеру, Шиллер планировал издать под заголовком «Kallias, или О красоте», но не успел выполнить это намерение.
16
Статьи «О наивной и сентиментальной поэзии», 1795», «О нравственной пользе эстетических нравов», 1796, «О дилетантизме», 1799 (совместно с Гёте), «О возвышенном», 1801.
17
Это уточнение можно считать прямой отсылкой к эссе Канта «Ответ на вопрос, что такое Просвещение»: «Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого». Шиллер же утверждает, что человек может быть сам себе руководителем и достичь духовной зрелости без помощи извне.
18
Здесь Шиллер полемизирует с Кантом, который отрицал возможность добровольного, ненасильственного стремления к преодолению чувственных порывов ради выполнения морального закона. По Канту, нравственный человек подчиняется долгу, а не собственной склонности к нравственному поведению. Шиллер пытался представить категорический императив не как навязанный извне, а как выражающий добрую волю самого субъекта, преодолевшего импульс поступить безнравственно.
Комментарии
1
Я ссылаюсь здесь на недавно появившееся сочинение моего друга Фихте: «О назначении ученого», где из настоящего положения читатель найдет чрезвычайно ясный вывод, которого на этом пути еще никто не искал.