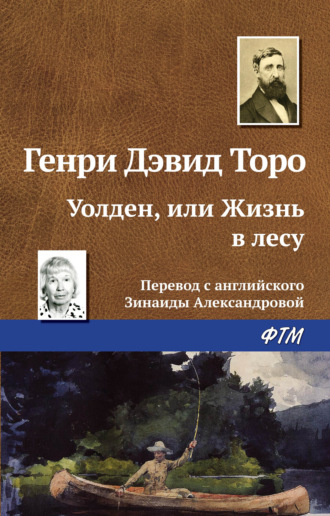
Полная версия
Уолден, или Жизнь в лесу
Читатель, вероятно, заметил, что я подхожу к своему предмету скорее с экономической, чем с диетической точки зрения, и не решится повторить мой опыт воздержания, если у него нет в кладовой богатых запасов.
Хлеб я пек сперва из чистой кукурузной муки с солью, в виде плоских лепешек, и пек их на огне, под открытым небом, на щепке или на конце палочки, взятой с моей стройки, но они получались закопченными и отзывали смолой. Пробовал я и пшеничную муку, но в конце концов остановился на смеси ржаной муки с кукурузной, которая всего вкуснее и удобнее для выпечки. В холодные дни было очень приятно печь из нее, по одному, маленькие хлебцы, поворачивая их так же тщательно, как египтяне – яйца, из которых они искусственно выводили цыплят. В моих руках созревал подлинный плод полей, казавшийся мне таким же ароматным, как другие благородные плоды, и я старался сохранить этот аромат подольше, заворачивая хлебы в полотенца. Я изучил древнее и важное искусство хлебопечения по доступным мне источникам с самого его зарождения, с первого пресного хлеба, когда человек после первобытной дикости орехов и мяса впервые вкусил этой утонченной пищи; я прочел далее о случайно скисшем тесте, которое, как полагают, навело людей на мысль о заквашивании, а затем о различных способах заквашивания, вплоть до «доброго, здорового, вкусного хлеба», опоры жизни. Дрожжи, почитаемые некоторыми за душу хлеба, за spiritus, оживляющий его клетчатку, и поэтому тщательно хранимые, подобно девственному огню, – в Америку они, вероятно, были доставлены в какой-нибудь бутыли, бережно привезенной на «Мэйфлауэре»,[63] и с тех пор их волны все выше вздымаются, все шире разливаются по стране, – дрожжи я регулярно и заботливо добывал в деревне, но однажды, позабыв правило, обдал их кипятком; благодаря этой случайности я обнаружил, что и в них нет необходимости – ибо свои открытия я делал не синтетическим, а аналитическим путем – и с тех пор обходился без них, хотя большинство хозяек заверяло меня, что настоящий полезный хлеб без дрожжей не получается, а старики пророчили мне быстрый упадок сил. Я установил, однако, что дрожжи не являются главным ингредиентом: прожив без них год, я еще не отправился на тот свет и был рад избавиться от скучной необходимости таскать в кармане бутылку, которая иногда, к моему смущению, выталкивала пробку и содержимое. Обходиться без них проще и достойнее. Человек более всех животных способен применяться к самым различным климатам и обстоятельствам. Не клал я также в хлеб ни соли, ни соды, ни других кислот или щелочей. По-видимому, я пек его по рецепту, предложенному за два века до христианской эры Марком Порцием Катоном[64] «Panem depsticium sic facito. Manus mortariumque bene lavato. Farinam in mortarium indito, aquae paulatim addito, subigitoque pulchre. Ubi bene subegeris. defingito, coquitoque sub testu». Это, насколько я понимаю, означает: «Пеки хлеб так: хорошенько вымой руки и квашню. Засыпь муку в квашню. Воду вливай постепенно и вымешивай тщательно. Когда вымесишь, придай хлебу форму и выпекай в закрытой посуде», то есть в кастрюле. О дрожжах тут не сказано ни слова. Однако я не все время имел эту «опору жизни». Однажды из-за пустоты моего кошелька мне не довелось есть ее более месяца.
Каждый житель Новой Англии легко мог бы сам выращивать свой хлеб в нашем краю ржи и кукурузы и не зависеть от отдаленных и изменчивых рынков. Но мы так отдалились от простоты и независимости, что в Конкорде редко найдешь в лавке свежую кукурузную муку, а мамалыгу не употребляет почти никто. Обычно фермер отдает выращенные им злаки окоту и свиньям, а сам покупает в лавке пшеничную муку, более дорогую и уж во всяком случае не более полезную. Я увидел, что легко смогу вырастить нужные мне бушель или два ржи и кукурузы – первая родится даже на самой плохой земле, а вторая тоже не очень прихотлива, – смолоть их на ручной мельнице и обойтись без риса и свинины. А если нужен сахар, оказалось, что у меня получается отличная патока из тыквы или свеклы; чтобы добыть ее еще проще, мне надо было посадить несколько кленов, а пока они растут, употреблять в пищу другие сахаристые вещества, кроме названных. Ибо, как пели наши деды:
Для сладкой настойки все в дело идет,Щепа от ореха и тыквенный мед.[65]Что касается соли, простейшего из бакалейных товаров, то она могла служить поводом для прогулки на морской берег, но можно обходиться и без нее – просто будешь меньше пить воды. Я не слыхал, чтобы индейцы давали себе труд ее добывать.
Так оказалось, что по части пищи я мог обойтись без всякой купли и мены; кров у меня уже был, оставались только одежда и топливо. Брюки, которые я сейчас ношу, были из домотканого сукна, – слава богу, что эта добродетель еще сохранилась, ибо превращение фермера в рабочего я считаю таким же великим и достопамятным падением, каким было грехопадение, превратившее человека в фермера. Топлива в такой новой стране, как наша, некуда девать. А что до права жительства, то если бы мне не разрешили жить и дальше на правах скваттера, я мог бы купить акр земли за ту же цену, по какой был продан обработанный мною участок, – то есть за восемь долларов восемь центов. Но я считал, что повышаю стоимость земли тем, что поселился на ней.
Есть скептики, которые иногда спрашивают меня, действительно ли я способен питаться одной растительной пищей. Чтобы сразу в корне пресечь расспросы, ибо в корне – вера, я обычно отвечаю, что могу питаться гвоздями. Если они этого не поймут, едва ли они поймут меня вообще. А я с удовольствием слышу о подобных опытах, например, о юноше, который пробовал в течение двух недель питаться сырыми початками кукурузы, перетирая их зубами. Беличье племя проделывает это с успехом. Такие эксперименты идут на пользу человеческому роду, хотя и тревожат некоторых старых баб, неспособных к ним из-за отсутствия зубов или владеющих контрольным пакетом акций в мукомольной промышленности.
Моя обстановка, которую я частично сделал сам и на которую не затратил ничего сверх сумм, указанных мною выше, состояла из кровати, стола, письменного стола, трех стульев, зеркала диаметром в три дюйма, щипцов, таганка, котелка, кастрюли, сковороды, черпака, таза, двух ножей и вилок, трех тарелок, одной кружки, одной ложки, кувшина для лампового масла, кувшина для патоки и лакированной лампы. Даже последнему из бедняков необязательно сидеть на тыкве. Для этого надо быть уж совсем неумелым. Стулья, которые мне больше всего нравятся, можно найти на деревенских чердаках, и вам их охотно отдадут даром, только унесите. Мебель! Слава богу, я могу сидеть и стоять без помощи мебельного склада. Кто, кроме философа, способен сложить свою мебель на воз и перевозить ее, не стыдясь людских глаз и света небесного, – этакое убогое собрание пустых ящиков? А ведь такова мебель Сполдинга.[66] Глядя на груженые возы, я никогда не мог определить, кому они принадлежат – так называемому богачу или бедняку: их владелец всегда казался мне бедняком. Чем больше у нас всего этого, тем мы беднее. В каждом таком фургоне словно умещается содержимое целой дюжины лачуг; и если лачуга бедна, значит, тут бедности в 12 раз больше. Зачем мы переезжаем, как не для того, чтобы отделаться от нашей мебели, нашей старой, сброшенной кожи? – а там, смотришь, и перебраться в иной мир, обставленный заново, а все здешнее предать сожжению. Так и кажется, будто все эти пожитки прицеплены к человеку, и он, передвигаясь по нашей пересеченной местности, вынужден тащить за собой капкан. Счастлива лиса, оставившая в капкане свой хвост.[67] Мускусная крыса лишь бы освободиться, отгрызает себе лапу. Неудивительно, что человек утратил подвижность. Как часто он застревает в пути! «Простите, сэр, но что вы под этим разумеете?» Если вы проницательны, то при виде человека вы видите за его спиной также и все, чем он владеет, и даже многое, от чего он якобы отрекается, – все, вплоть до кухонной обстановки и прочего хлама, который он накопил и не хочет сжечь: он точно впряжен в этот воз и лишь с трудом может продвигаться. Я считаю, что человек застрял, когда он пролез в какой-нибудь лаз или ворота, куда он не может протащить свой фургон с мебелью. Я невольно испытываю сострадание, слыша, как здоровый, подвижной и, по-видимому, свободный человек беспокоится о своей «обстановке», застрахована ли она: «Что мне делать с моей обстановкой?» Это значит, что легкий мотылек запутался в паутине. Даже те, у кого как будто ничего нет, если приглядеться поближе, что-нибудь да хранят в чужом сарае. Англия наших дней представляется мне старым джентльменом, который путешествует с большим багажом, со всем хламом, накопившимся за долгое хозяйствование, и не решается его уничтожить: тут и сундук, и сундучок, и картонка, и узел. Бросил бы хоть первые три! Ни у одного здорового человека в наше время не хватит сил встать, взять постель свою и пойти.[68] А больному я уж, конечно, посоветую бросить свою постель и бежать. Встречая иммигранта, согбенного под тяжестью узла, в котором находится все его имущество и который похож на гигантскую опухоль, выросшую у него на шее, я жалею его не потому, что тут все его достояние, а потому, что ему столько приходится тащить. Если мне суждено влачить свой капкан, я постараюсь, чтобы он был легким и не защемил важного для жизни органа. Самым мудрым было бы вероятно совсем не совать туда лапу.
Замечу, кстати, что я не расходовался на занавеси, ибо ко мне никто не заглядывал, кроме солнца и луны, а против них я ничего не имею. Луна не сквасит мне молоко[69] и не испортит мяса, солнце не повредит мебель и ковры, а если ласка его бывает иной раз чересчур горяча, я предпочту укрыться за каким-нибудь занавесом, созданным самой природой, но не обзаводиться лишней вещью. Одна дама предложила мне половик, но в доме не нашлось бы для него места, а у меня – времени, чтобы его выбивать, и я отклонил подарок, предпочитая вытирать ноги о дерн перед дверью. Зло лучше пресекать в самом начале.
Недавно я присутствовал на распродаже вещей одного диакона, преуспевшего в жизни:
Людей переживают их грехи.[70]Как водится, большая часть вещей была хламом, который начал накапливаться еще при жизни его отца. В числе других предметов оказался сушеный солитер. Пролежав полвека на чердаке и в чуланах, эти вещи не были сожжены; вместо очистительного костра для их уничтожения, устроили аукцион, что означает «увеличение». Соседи сбежались посмотреть их, скупили их и бережно перенесли на свои чердаки и в чуланы, чтобы хранить вплоть до собственной смерти, и тогда их снова извлекут. Много пыли подымает человек, когда умирает.
Нам следовало бы перенять обычаи некоторых первобытных народов, у которых существует церемония ежегодного обновления, то есть имеется хотя бы понятие о нем, если даже оно и не происходит в действительности. Хорошо бы и нам праздновать «праздник первых плодов», описанный Бартрамом[71] в числе обычаев индейцев Мукласси. «Для этого праздника, – говорит он, – все жители селения обзаводятся новой одеждой, новой посудой и другой домашней утварью, собирают сношенное платье и другие вещи, пришедшие в негодность; выметают весь сор из домов, с улиц и всего села и сгребают его, вместе с остатками зерна и других запасов, в одну большую кучу, которую поджигают. Затем они все принимают лекарственные снадобья и в течение трех дней постятся, а все огни должны быть погашены. Во время поста они соблюдают воздержание во всем. Объявляется также общая амнистия; все преступники могут вернуться в село.
На утро четвертого дня главный жрец возжигает на площади новый огонь, добывая его посредством трения сухих палочек одна о другую, и каждый очаг получает от него новое, чистое пламя».
Затем они вкушают от плодов нового урожая и в течение трех дней отмечают праздник пляской и пением, а потом «еще четыре дня пируют вместе с гостями из соседних селений, которые совершили такое же очищение».
У мексиканцев подобное очищение совершается каждые пятьдесят два года, ибо по их верованиям в эти сроки можно ждать конца света.
Мне едва ли приходилось слышать о более высоком таинстве, если таинство, по определению наших словарей, является «внешним и видимым проявлением духовной благодати», и я не сомневаюсь, что оно некогда было внушено индейцам небесами, хотя у них и не имеется Библии, где это откровение было бы записано.
Более пяти лет я всецело содержал себя трудом своих рук и установил, что, работая шесть недель в году, могу себя обеспечить. Вся зима и большая часть лета освобождалась для занятий. Пробовал я и преподавать в школе, но обнаружил, что тут затраты возрастают пропорционально, вернее, не пропорционально доходам, потому что я был вынужден определенным образом одеваться, подготавливаться и даже думать и верить, да к тому же терял время. Поскольку я брался учить не ради блага ближних, а только ради пропитания, я потерпел неудачу. Пробовал я и торговать, но установил, что тут требуется лет десять, чтобы пробить себе дорогу, но тогда уж это будет прямая дорога в ад. Я убоялся, что к тому времени буду иметь так называемое доходное дело. Когда я подыскивал себе источник заработка – и при этом крепко задумывался, уже имея печальный опыт неудач, постигавших меня, когда я поступал по желанию друзей, – я часто всерьез подумывал заняться сбором черники; я знал, что сумею это делать и что мне хватит скромного дохода от нее, ибо самый большой мой талант, это – малые потребности; тут не нужно капитала и не придется, как я наивно думал, надолго отрываться от любимых мною занятий. Пока мои знакомцы, не раздумывая избирали торговлю или свободные профессии, я представлял себе свой промысел почти таким же: все лето проводить на холмах, собирая ягоды, а потом сбывать их без хлопот – и таким образом пасти стада Адмета.[72] Мечтал я также собирать лекарственные травы или продавать с воза вечнозеленые ветки тем из горожан, кто любит напоминание о лесах. Но с тех пор я узнал, что торговля налагает проклятие на все, к чему прикасается: хоть бы вы торговали посланиями с небес, над вами тяготеет то же проклятие.
Так как у меня были свои вкусы, и я более всего ценил свободу, так как я мог терпеть нужду и при этом чувствовать себя отлично, я не пожелал тратить время на то, чтобы заработать на богатые ковры или дорогую мебель, или тонкую кухню, или дом в греческом или готическом стиле. Кто способен приобрести все эти вещи, не отрываясь от дела, и умеет ими пользоваться, когда они приобретены, тем я и предоставляю эту заботу. Есть люди «трудолюбивые», по-видимому, любящие труд ради него самого, а, может быть, потому, что он не дает им впасть в худший соблазн, – этим мне сейчас нечего сказать. Тем, кто не знает, куда девать больший досуг, чем они имеют сейчас, я советую работать вдвое больше – пока они не выкупят себя на волю. Для себя я выяснил, что наибольшую независимость дает работа сельского поденщика, особенно потому, что там достаточно работать 30–40 дней в году, чтобы прокормиться. День у поденщика кончается с заходом солнца, и он тогда свободен для любимого дела и не связан со своей работой; зато его хозяин, постоянно занятый расчетами, не знает покоя круглый год.
Словом, убеждение и опыт говорят мне, что прокормиться на нашей земле – не мука, а приятное времяпрепровождение, если жить просто и мудро: недаром основные занятия первобытных народов превратились в развлечения цивилизованных. Человеку вовсе не обязательно добывать свой хлеб в поте лица – разве только он потеет легче, чем я.
Один знакомый мне юноша, получивший в наследство несколько акров земли, сказал мне, что последовал бы моему примеру, если бы имел средства. Я ни в коем случае не хочу, чтобы кто-либо следовал моему примеру; во-первых, пока он этому научится, я, может быть, подыщу себе что-нибудь другое, а во-вторых, мне хотелось бы, чтобы на свете было как можно больше различных людей и чтобы каждый старался найти свой собственный путь и идти по нему, а не по пути отца, матери или соседа. Пусть юноша строит, сажает или уходит в море, пусть только ему не мешают делать то, что ему хотелось бы. Вся наша мудрость заключена в математической точке, подобно тому как моряк или беглый невольник отыскивают путь по Полярной звезде, но этого руководства нам достаточно на всю жизнь. Пускай мы не достигнем гавани в рассчитанное время, лишь бы не сбиться с верного курса.
В этом случае то, что истинно для одного, несомненно, остается тем более истинным для тысячи. Большой дом не стоит дороже маленького во столько же раз, во сколько он больше, – ведь все комнаты можно покрыть общей крышей, разделить общей стеной и подвести под них общий погреб. Я, однако, предпочитаю отдельное жилище. К тому же дешевле все выстроить самому, чем убедить другого в преимуществах общей стены. А если вы ее возвели, то она, экономии ради, должна быть тонкой, а сосед может оказаться плохим или не станет содержать ее в исправности. Обычно сотрудничество между людьми бывает лишь частичным и крайне поверхностным, а то подлинное содружество, какое изредка встречается, никому не заметно, ибо эта гармония не слышна людскому уху. Если у человека есть вера, он с той же верой будет сотрудничать со всеми, а если веры нет, то, он будет вести себя, как большинство, с кем бы вы его ни сочетали. Сотрудничать, в самом высоком и одновременно в самом низком смысле слова, значит вместе зарабатывать на жизнь. Недавно было предложено, чтобы двое молодых людей вместе путешествовали по свету, но чтобы один ехал без денег и зарабатывал их по пути, на море – матросом, а в поле – пахарем, а другой имел бы в кармане чек. Ясно, что им скоро будет не по пути, – какое уж тут сотрудничество, когда один из них вовсе не будет трудиться. Они расстанутся при первом же важном событии в их странствиях. Но главное, как я уже сказал, – тот, кто едет один, может выехать хоть сегодня, а тот, кто берет с собой спутника, должен ждать, пока он будет готов, и они еще очень не скоро пустятся в путь.
Все это, однако, чистейший эгоизм, говорят некоторые из моих соотечественников. Признаюсь, что я до сей поры очень мало занимался филантропией. Мне пришлось принести кое-какие жертвы моему чувству долга, пришлось, между прочим, пожертвовать и этим удовольствием. Некоторые люди всеми силами пытались убедить меня взять на иждивение каких-нибудь здешних бедняков; и если бы мне нечего было делать – а дьявол всегда находит работу для праздных рук – я мог бы занять себя таким образом. Однако, когда я попытался предпринять нечто подобное и выслужиться перед их Небесами, предложив неким беднякам то же содержание, какое имею я сам, и действительно сделал им такое предложение, – все они, не колеблясь, предпочли остаться в бедности. Раз уж мои земляки обоего пола всячески посвящают себя благу своего ближнего, я надеюсь, что хоть одному из нас дозволено заняться иными, менее гуманными делами. Для благотворительности, как и для всего другого, нужен талант. Желающих делать добро так много, что вакансий не остается. К тому же я честно пробовал свои силы на этом поприще и, как ни странно, убедился, что оно не по мне. Едва ли мне следует сознательно отказаться от своего призвания, чтобы делать добро, предписываемое мне обществом, даже если бы от этого зависело спасение вселенной; думаю, что именно чье-то упорство, подобное моему, но несравненно большее, одно только и спасает ее до сих пор. Впрочем, я не хочу отговаривать тех, кто чувствует призвание именно к благотворительности; каждому, кто делает это отвергаемое мною дело и предан ему душой и сердцем, я говорю: продолжай, даже если свет назовет твое добро злом, что он, вероятно, и сделает.
Я далек от мысли, что представляю собой исключение; многие из моих читателей наверняка могли бы сказать о себе то же самое. Я уверен, – не ручаюсь, что это мнение разделяют мои соседи, – что меня стоило бы нанять в работники, а на какую работу – это пусть выясняет тот, кто меня наймет. Когда мне случается делать добро в общепринятом смысле слова, это должно быть в стороне от моей главной дороги и большей частью совершенно непреднамеренно. Нам обычно говорят: каков ты ни есть, немедленно, не думая о собственном совершенствовании, начинай творить добро ради добра. Если бы я взялся за подобную проповедь, я сказал бы иначе: начни с собственного совершенствования. Неужели солнце, разгоревшись до яркости луны или звезды шестой величины, должно этим удовольствоваться и бродить по свету, как Робин Добрый Малый[73] – заглядывать в окна, тревожить лунатиков, портить свежее мясо и светить лишь настолько, чтобы тьма делалась видимой, – когда оно может довести свое благодетельное сияние до такого накала, что глаза смертных не в силах будут его созерцать, и идти по своей орбите, чтобы приносить благо Земле, или, согласно более верному учению, чтобы Земля, обращаясь вокруг него, становилась лучше. Когда Фаэтон, желая доказать свое небесное рождение щедростью, получил на один день колесницу Солнца и свернул с торной дороги, он сжег несколько кварталов в нижнем Небесном Граде, опалил земную поверхность, иссушил все источники и образовал пустыню Сахару, но тут Юпитер поверг его на землю громовым ударом, а Солнце, печалясь о нем, не светило после этого целый год.
Нет хуже зловония, чем от подпорченной доброты. Вот уж подлинно падаль, земная и небесная. Если мне станет наверняка известно, что ко мне направляется человек с сознательным намерением сделать мне добро, я кинусь спасаться от него, точно от иссушающего ветра африканских пустынь, именуемого самумом, который набивает тебе пылью рот, нос, уши и глаза, пока ты не задохнешься, – так я боюсь его добра, боюсь проникновения этого вируса в мою кровь. Нет, тогда уж лучше претерпеть положенное мне зло. Я не назову человека добрым за то, что он накормит меня, голодного, или согреет, озябшего, или вытащит из канавы, если мне доведется туда свалиться. Это может сделать и ньюфаундлендская собака. Филантропия – это не любовь к ближнему в широком смысле слова. Хауард[74] несомненно был в своем роде весьма добрым и достойным человеком и получил за то свою награду, но что для нас сотня Хауардов, если их благотворительность не помогает нам, в нашем относительно лучшем положении, когда мы больше всего заслуживаем помощи? Я еще не слышал о благотворительном собрании, где бы искренне предложили сделать добро мне или мне подобным.
Иезуиты оказывались бессильны перед индейцами, которые, горя на костре, сами подсказывали своим мучителям новые способы пытки. Возвысившись над физическим страданием, они иногда были недосягаемы и для утешений, какие могли предложить им миссионеры; правило: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»[75] – не слишком убедительно звучало для тех, кому было безразлично, как с ними поступят, кто любил своих врагов на свой особый лад и был очень близок к тому, чтобы простить их.
Помогая бедным, предлагай им именно то, в чем они больше всего нуждаются, хотя бы это был собственный твой пример, до которого им далеко. Если даешь им деньги, отдавай и часть себя самого, а не просто бросай подачку. Мы иногда совершаем странные ошибки. Бедняк зачастую не столько голоден и холоден, сколько грязен, оборван и груб. Это не только его беда, но отчасти и его добрая воля. Дайте ему денег, и он купит на них еще лохмотьев. Я долго жалел неуклюжих ирландских рабочих, рубивших на пруду лед в такой рваной и убогой одежде, когда я дрожал в своем более опрятном и приличном костюме, пока однажды, в особенно холодный день, один из них не упал в воду и не зашел ко мне обогреться: он снял с себя три пары штанов и две пары чулок, правда рваных и грязных, и я увидел, что он не нуждается в дополнительной верхней одежде – столько у него было нижней. Купанье в пруду было именно то, что ему требовалось. Тут я начал жалеть себя и понял, что дать мне фланелевую рубашку было бы ближе к истинной филантропии, чем подарить ему целую лавку старьевщика! На один удар по истинным корням зла приходится тысяча охотников обрубать его ветви, и может статься, что тот, кто отдает беднякам больше всего времени и денег, всем своим образом жизни способствует увеличению нищеты, которую тщетно пытается облегчить. Это – благочестивый работорговец, жертвующий барыш с каждого десятого раба[76] на воскресный отдых остальным. Некоторые проявляют заботу о бедняках тем, что дают им работу на кухне. Не проявят ли они больше истинной доброты, если потрудятся там сами? Ты хвалишься, что тратишь на благотворительность десятую часть своих доходов, – не лучше ли отдать и остальные девять десятых и сразу покончить с этим делом? В данном случае обществу возвращается лишь десятая доля его имущества. Чем объяснить это – великодушием тех, кому она достается, или нерадивостью служителей правосудия?
Филантропия – почти единственная из добродетелей, достаточно ценимая людьми. Ее даже переоценивают, и виной тому – наш эгоизм. Однажды, в солнечный день, один бедняк здоровенный малый, хвалил мне некоего жителя Конкорда за доброту к беднякам – он разумел под ними себя. Добросердечные дядюшки и тетушки человечества ценятся выше его подлинных духовных отцов и матерей. Я слышал, как один преподобный лектор, человек большой учености, говоривший об Англии, перечислил светил английской науки, литературы и политической жизни – Шекспира, Бэкона, Кромвеля, Мильтона, Ньютона и других – и тут же перешел к религиозным деятелям; как видно, полагая, что к этому обязывает его звание, он вознес их превыше всех других, как величайших из великих. Ими оказались Пенн,[77] Хауард и миссис Фрай.[78] Каждый почувствует здесь ложь и ханжество. Эти люди не принадлежали к числу лучших сынов и дочерей Англии, разве что к ее лучшим филантропам.









