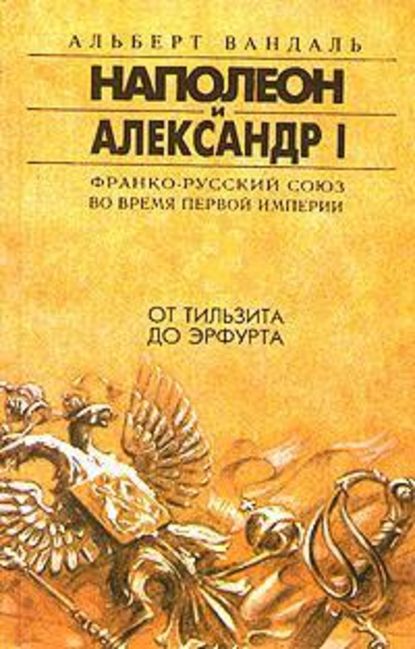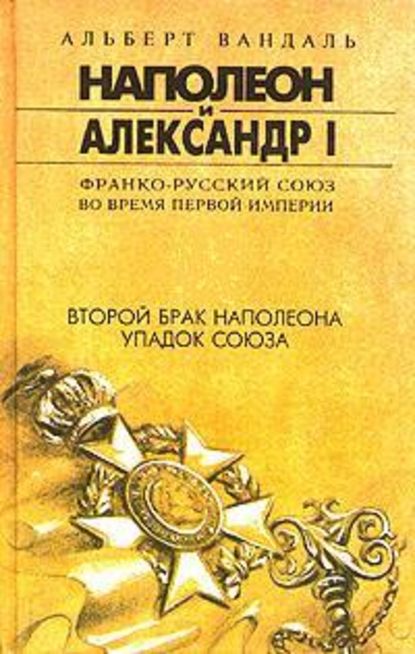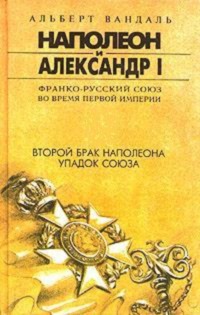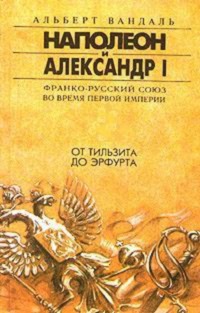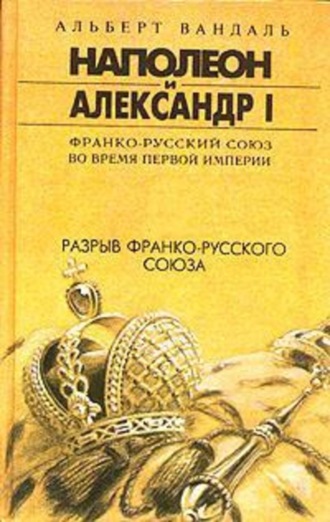 полная версия
полная версияРазрыв франко-русского союза
Тщетно давал он себе слово быть спокойным —не показывать гнева, а только сожаление; бранить, но дружески и свысока. Увлеченный чувством ненависти, он нарушил данное себе слово, перестал сдерживаться, начал наносить обиды и оскорбления. Его голос сделался отрывистым и пронзительным. Каждая фраза дышала страстью или ненавистью. Каждое слово было оскорблением.
Император Александр, говорил он, хвастается своими благородными чувствами. Он хочет быть рыцарем на троне. Но окружать себя презренными людьми, позорищем и отребьем Европы, значит ли следовать этому правилу? Среди самих русских кто его избранники? Кому вверил он начальство над своими армиями и судьбу страны? “Я не знаю Барклая-де-Толли, но Беннигсен!..” Намек на насильственную смерть Павла I – на заговор, в котором Беннигсен принимал участие и которое ускорило воцарение Александра, был на устах императора. Он несколько раз проглядывал в его разговоре.
Мы неоднократно указывали, что до какой бы степени ни доходили припадки его гнева, он всегда отлично я умел владеть собой и пользоваться проявлением своего гнева для достижения своих целей. Теперь его желанием было не столько оскорбить Александра, сколько застращать его. Конечно, он не прочь смешать его с грязью, но, главное, хочет нагнать на него страху. Его цель доказать, что царь, доверившись иностранцам и приобщившись к их вражде, идет вразрез с национальными традициями; но при первом удобном случае приверженцы этих традиций восстанут против него и могут подвергнуть опасности его корону и даже жизнь. Нужно сказать, что в течение одного века недовольство высших классов в России неоднократно проявлялось заговорами, покушениями, дворцовыми или казарменными переворотами. На протяжении шестидесяти лет эти внутренние кризисы приводили к переменам царствования. На основании этих прецедентов вся Европа была убеждена в неустойчивости власти в Петербурге. Вот одна из причин, почему Наполеон безусловно верил в успех своего предприятия и что побуждало его отважиться на него. В разговорах он почти ручался, что при том критическом и тяжелом положении, в какое он вскоре поставит Россию, возмущение высших классов окажет косвенное содействие вторжению и быстро положит конец сопротивлению. Во всяком случае, чтобы заставить Александра поскорее сдаться, он старается напугать его возможностью мятежа; он стремится лишить его мужества, и все его слова, все намеки направлены к тому, чтобы внушить сыну Павла I мысль, что участь его отца может быть и его участью. Он старается внушить ему мрачные видения, окружить его призраками загробного мира, которые бы навели его на мысли об ожидающей его будущности.
– Разве, – сказал он, – император Александр так прочно сидит на престоле, что, может безнаказанно доводить своих подданных до отчаяния и подвергать их бедствиям неудачной войны? – Люди, – продолжал он, – которым Александр отдает на поругание свое доверие, первые, лишь только это покажется им выгодно, обратятся против него; они изменят ему, продадут его, “затянут веревку, которая пресечет его жизнь”. Разве эти слова не были намеком на шарф, которым будто бы умертвили Павла I? – Что нужно для повторения подобных ужасов? – продолжал он. – Для этого достаточно порядочного толчка со стороны – такого, который встряхнул бы общественное мнение; достаточно известия о проигранном сражении, о крупном военном погроме! А такой погром неизбежен. Тут Наполеон целым рядом бесподобных и потрясающих данных старается доказать, что война неминуемо сложится во вред русским и приведет их в расстройство. Он утверждает, что она плохо началась для них и что способ, которым она началась, позволяет предсказать ее исход; он выбивается из сил, чтобы доказать это. Он старается показать, что все события начального периода враждебных действий, которые, как нам известно, доставили ему столько разочарований, слагаются в его пользу. Разве несоразмерность сил в людях, в деньгах – словом, во всякого рода средствах, не очевидна; разве она не подавляюща? – спрашивает Наполеон. Он хвастается, что ему все известно о русских армиях; что он знает состав и достоинство каждой из них; знает число дивизий, средний наличный состав батальонов. Он приводит цифры, излагает все подробности; причем самодовольно вспоминает о своей собственной мощи, делает выкладки, сравнения, и, искусно сопоставляя свои и русские войска, старается показать, что сила всюду на его стороне. Превосходно умея придавать утверждениям по меньшей мере смелый характер строго выведенных истин, он доказывает, что задача успешной кампании им уже решена, что он уверен, безусловно уверен в своем деле, что он уверен, как дважды два – четыре, в победе.
Да и кто в Европе, высказывает он, может сомневаться в подобном результате? Даже англичане сожалеют о войне, ибо предвидят “несчастье для России и, быть может, наихудшее несчастье”, т. е. переворот. Что же касается континентальной Европы, то она идет с нами, она следует за нашей звездой. Правда, русские хвастаются, что отняли у нас некоторых традиционных союзников. Говорят о мире, который они будто бы заключили с турками – и Наполеону, в сущности крайне недовольному и сильно заинтригованному этим договором, очень хотелось бы узнать, каковы его условия. Он подвергает Балашова правильному допросу, но тот уклоняется от ответов. Тогда он делает вид, что относится пренебрежительно к туркам и шведам – к этим жалким союзникам, не имеющим существенного значения. Вот увидят, продолжает он, что, лишь только счастье повернется в его сторону, они вернутся к нему, что они примкнут к победителю. Он говорит, что прекрасно знает, что у него стараются похитить, переманить его немецких союзников; его войска перехватили письмо, написанное одним принцем – родственником русской императорской семьи, в котором подговаривают пруссаков к дезертирству. Жалкие способы, разве так должны действовать императоры? Пусть государи ведут войну – это их право: но, по крайней мере, они должны влагать в свои войны подобающие этим великим турнирам благородство и величие души. Впрочем, чего надеются достигнуть подобными приемами? Только того, что избавят его армию от “нескольких бездельников”; что отнимут у него несколько сот солдат. Но ведь у него их 550000 – да, 550000 полностью – против 200000 русских. “Скажите императору Александру, что я даю ему мое честное слово, что у меня по ту сторону Вислы 550 000 человек”.
Проделав этот выпад, он смягчается, меняет тон, и легко, почти небрежно, подходит к тому, к чему хотел придти. Вывод, который должны были сделать из его слов, из того, чего он не договаривал и на что намекал, был тот, что император Александр может быть уверен, что будет побит; что он окружен опасностями, что ему остается только один выход: как можно скорее прекратить борьбу и покориться его воле. Что же касается его, то он будет воевать, ибо его вынуждают к этому; но что от этого он не сделается ни более воинственным, ни более озлобленным; что “он ничего не имеет ни против переговоров, ни против мира”. Конечно, пусть не обращаются к нему с требованиями об эвакуации Вильны или об отступлении его армии. На подобные условия нельзя смотреть серьезно. Но если император Александр пожелает дать себе отчет о существующем положении и решится на надлежащие жертвы, то всякий, кто бы ни явился от него, будет желанным гостем. Может быть, он захочет вернуть графа Лористона, чтобы всегда иметь под рукой человека, с которым можно было бы начать переговоры? – Ему нужно сделать только знак, и прежний посланник снова поедет в Петербург. Может быть, он хочет теперь же установить условия войны – так, чтобы сохранить требования гуманности и цивилизации, заключить договор на самых любезных основах, поставить в лучшие условия раненых и пленных? – Наполеон готов вести эти переговоры параллельно с враждебными действиями, – и здесь-то все более обнаруживается его сокровенная мысль. Его главное желание – не прерывать сношений с Александром, сохранить возможность в свое время снова завладеть им и, уже покорного и раскаявшегося, снова привлечь к себе. Поэтому он начинает говорить о царе с сожалением, как о заблудшем друге, к которому, невзирая ни на что, в глубине души, относятся снисходительно и с которым желают снова сойтись. Затем, выложив во время разговора все эти мысли, не настаивая, однако, на них и предоставляя своему противнику заботу уловить их и воспользоваться ими, он с удивительной развязностью заговорил о безразличных вещах.
Он расспрашивает Балашова о русском дворе, справляется о канцлере. “Говорят, граф Румянцев болен? У него был удар?.. Скажите, пожалуйста, отчего удалили… того, который состоял у вас в Государственном Совете… Как его фамилия? Спи… Спер…” Он намекал на Сперанского, но у него не было памяти на фамилии, и к тому же ему нравилось искажать их. Он хочет знать, за что попал в опалу человек, которого он когда-то видел в Эрфурте. Он с видимым удовольствием из простого любопытства задает подобные вопросы, как будто его прекрасное положение, его спокойное, уверенное настроение позволяют ему развлечься болтовней. В заключение, совсем развеселившись и сделавшись приятным, он завершил разговор следующими, более чем любезными словами: “Не хочу далее злоупотреблять вашим временем, генерал. В течение дня я приготовлю вам письмо к императору Александру”.
V
В семь часов вечера Балашов был приглашен на обед к Его Величеству. Кроме него приглашенными были: Бертье, Дюрок, Бессьер и Коленкур. Коленкур получил приглашение вне правил и был немного удивлен этим, ибо с некоторых пор его повелитель не баловал его подобными милостями. Само собой разумеется, что во время обеда главным образом говорил и направлял разговор император; но он снова сделался надменным, своенравным и задорным. Говоря с собеседником не с глазу на глаз, а перед целой аудиторией, он имел в виду убедить не его одного, а подействовать на определенное количество лиц. Его очевидной целью было поставить Балашова в затруднительное положение и смутить его при свидетелях неожиданными вопросами. Можно было думать, что в его лице он хотел смутить и унизить Россию. На его счастье, он имел дело с противником, которого трудно было сконфузить; он столкнулся с патриотом, обладающим живым умом и редкой находчивостью. В происшедшем словесном состязании его противник мужественно оспаривал у него победу.
В начале разговора Наполеон принял откровенно-дружеский и добродушно-насмешливый тон. Он коснулся самых игривых предметов, как будто находил нужным дать отдых своему уму после дневных занятий. Он намекнул на частную жизнь Александра, на его успехи у женщин, на его любовные похождения, которые, по-видимому, поглощали его даже в то время, когда наши войска переходили границу.
– “Правда ли, – спросил он, – что в Вильне император Александр каждый день пил чай у местной красавицы?” И, повернувшись к стоявшему за его креслом дежурному камергеру Тюренню, спросил:. “Как вы называете ее, Тюреннь?”.
– “Сулистровска, Государь”, – ответил камергер, на обязанности которого лежало иметь точные сведения об этих предметах.
– “Да, Сулистровска”. – И Наполеон вопросительно взглянул на Балашова.
– “Государь, – ответил Балашов, – император Александр всегда любезен с дамами, но в Вильне я видел, что он был занят совсем другим делом”.
– “Отчего бы и не так? – сказал император. В главной квартире это еще допустимо”.
Но он ставил Александру в упрек еще более компрометирующие связи. Он хотел знать, правда ли, что русский монарх, не довольствуясь тем, что принял на свою службу Штейна и Армфельта, позволил подобным людям сесть за свой стол и есть его хлеб?
– “Скажите откровенно, ведь Штейн обедал у русского императора?
– “Государь, все знатные особы приглашаются на парадные обеды Его Величества.
– “Как можно сажать Штейна за стол русского императора? Если даже император Александр решился выслушать его, во всяком случае, не следовало приглашать его к обеду. Неужто он вообразил, что Штейн может быть ему предан? Ангел и дьявол никогда не должны быть вместе”.
После того, он с любопытством самонадеянности заговорил о России, как о стране, которую он в скором времени посетит и исколесит во всех направлениях. Москва была уже у него на языке.
– “Генерал, – спросил он, – сколько, по вашему мнению, жителей в Москве?
– “Триста тысяч, Государь”.
– “А домов”?
– “Десять тысяч, Государь”.
– “А церквей?”
– “Более трехсот сорока”.
– “Отчего так много?”
– “Наш народ часто бывает в них”.
– “Какая тому причина?”
– “Та, что наш народ набожен”.
– “Ба, в наши дни нет набожных людей!”
– “Прошу прощения, Государь, не везде так”. Может быть, в Германии и Италии нет уже набожных людей, но в Испании и России они еще есть”. Намек был колкий и заслуженный. Нельзя было умнее сказать императору, что до сих пор среди народов только одному народу удалось держать его под угрозой, и это был верующий народ; что другой столь же непоколебимый в своей вере народ сумеет, уповая на Бога, последовать данному примеру, и что Россия будет для него второй Испанией. После такого отпора император замолчал на несколько минут; затем, повторяя нападение, и, смотря в упор на Балашова, он сказал:
– “По какой дороге идти на Москву?” На такой недвусмысленный вопрос ответа пришлось подождать с минуту. Балашов не торопился, видимо, обдумывая его, затем сказал:
– “Государь, этим вопросом вы ставите меня в затруднительное положение. Русские, подобно французам, говорят, что всякая дорога ведет в Рим. Дорогу в Москву можно избрать по желанию. Карл XII взял ее на Полтаву”.
Напомнив неожиданно об имени и печальной судьбе шведского завоевателя, предупреждая императора, что, вместо того, чтобы идти в Москву, он может попасть в Полтаву, Балашов отвечал на похвальбу пророческой угрозой и сквитался очень остроумно. Но нельзя сказать, чтобы его кстати сказанные слова произвели тогда особенно сильное впечатление на присутствующих. Его ответы приобрели известность уже позднее, когда события выдвинули их и подчеркнули их значение.
После обеда перешли в соседнюю залу. Тут император пустился в философские рассуждения, высказывая сожаление об ослеплении государей и о безрассудстве людей. “Боже мой! Чего люди хотят?” Император Александр получил от него все, чего только мог желать – все, о чем его предшественники даже не смели и мечтать: Финляндию, Молдавию, Валахию, кусок Польши. Если бы он по-прежнему оставался в союзе, его царствование было бы записано золотыми буквами в летописях его народа. “Он испортил лучшее царствование, которое когда-либо было в России… На свое несчастье он бросился в эту войну: может быть, виной тому дурные советы, а то и предопределение судьбы”. И какими способами он ведет ее? Снова начиная горячиться и приходя в ярость, Наполеон повторил свои жалобы, все причины к неудовольствию, все тот же непосредственно к личности царя относящийся довод, которым старался затронуть в государе общечеловеческие свойства и который должен был внедрить в Александра тревогу за личную безопасность и заставить его дрожать за свою жизнь. Император Александр, – говорил он, – став во главе своих армий, не только не защищен от своих подданных, но подставляет себя в первую очередь и, в случае неудачи, отдает себя в жертву их ярости. “Он берет на себя ответственность за поражение. Война – моя сфера. Я привык к ней. Совсем иное дело он. Он – император по рождению. Он должен царствовать, а для командования назначить генерала. Если тот хорошо будет вести дело – наградить его, плохо – наказать. Пусть генерал будет ответственным перед ним, а не он перед народом; ибо и государи тоже несут известную ответственность; не следует забывать этого”.
Он еще долго продолжал говорить на эту тему, и, быстрыми шагами прохаживаясь перед стоявшими перед ним гостями, не скупился на зловещие предосторожности и жесткие слова. Вдруг он направился к Коленкуру, который оставался серьезным, не вмешиваясь в разговор и не проявляя ни малейшего знака одобрения. Ударив его слегка по щеке, он обратился к нему со следующим вопросом: “Ну, что же вы, старый царедворец петербургского двора, ничего не говорите?” Возвысив голос, он добавил: “О! Император Александр хорошо обращается с посланниками. Он строит политику на ласковом обращении. Он сделал из вас русского”.[653]
При этих словах Коленкур побледнел и изменился В лице. Вследствие того, что он имел мужество высказываться против войны, ему много раз и даже публично приходилось выслушивать эпитет русского, что оскорбляло его чувства патриота. Он страдал от этого; но до сих пор переносил неприятную шутку, которой его повелитель упорно его преследовал. В этот раз это было уже слишком. Повторять в присутствии иностранца, врага, упрек, против которого говорила вся его жизнь, значило сомневаться в его чувствах француза и в его верности. Несправедливость перехода границы, придирчивость обращалась в оскорбление. Коленкур не в силах был сдержаться и ответил тоном, какого император не привык слышать: “Вашему Величеству угодно делать вид, будто сомневаетесь, что я хороший француз; вы делаете так, конечно, только потому, что я не в меру доказал это своей откровенностью. Милостивое внимание императора Александра относилось к Вашему Величеству; как ваш верный подданный, Государь, я никогда не забуду о нем”[654].
По выражению лица говорившего все поняли, что герцог оскорблен до глубины души. Мороз пробежал по коже присутствующих; сам император почувствовал себя неловко и был смущен. Он переменил разговор, поговорил еще с Балашовым и любезно отпустил его. Но вместе с приготовленным императору Александру письмом, в котором он подводил итоги ссоры, он приказал передать ему экземпляр воинственной речи, с которой обратился к своим войскам перед переправой через Неман. Это было его ответом на требование отступить за реку. Обращаясь к Бертье и фамильярно называя его по имени, он сказал ему: “Александр, вы можете дать прокламацию генералу – это не секрет”.[655]
В то время, как Балашов выходил из дворца и садился в карету с тем, чтобы отправиться к своему императору, у Наполеона происходила бурная сцена, которою и завершились события этого дня.[656] Оставшись в кругу своих приближенных, император подошел к Коленкуру, стоявшему в стороне с расстроенным и мрачным лицом. Жалея и почти стыдясь, что огорчил верного слугу, почти друга, он хотел положить конец ссоре и постарался умастить нанесенную им рану. Тоном благосклонного упрека он сказал герцогу: “Вы напрасно сердитесь”, – и чтобы доказать, что он только пошутил, он сделал вид, что продолжает шутить. “Конечно”, – сказал он, – вы опечалены тем, что я собираюсь причинить зло вашему другу”.
Затем он повторил свою излюбленную фразу: “Не пройдет и двух месяцев, как русские вельможи принудят Александра просить у меня мира”. В последний раз он взял на себя труд объяснить герцогу и присутствующим, почему он ведет эту войну. По обыкновению мешая правду с ложью, он, однако, вполне справедливо напомнил, что союз с Россией был только способом привлечь ее на свою сторону, что это был обманчивый призрак; но из этого факта он выводил неверное заключение, что наступательная война на Севере предписывалась условиями времени; что она самая полезная, самая политичная из всех его предприятий; что она неизбежно приведет к общему миру.
Но Коленкур не слушал его. Всецело поглощенный нанесенным ему оскорблением, думая только о защите своей чести, он с страшной запальчивостью заговорил об оскорбивших его словах. Он сказал, вернее, закричал, что считает себя более французом, чем виновники этой войны; “что Его Величество при всех заявил, что он не одобряет этой войны, но что он гордится этим. Ввиду же того, что высказываются подозрения относительно его патриотизма и его преданности, он просит позволения удалиться из главной квартиры, и удалиться безотлагательно, на другой же день; просит Его Величество дать ему командование в Испании; просит разрешения служить ему вдали от его особы”. Тщетно император старался успокоить его милостивыми словами, Коленкур не унимался. Поддавшись чувству негодования, он потерял всякую меру. Он, видимо, не в силах был совладать ни со своими словами, ни с жестами. Остальные генералы, озадаченные такой вспышкой, в ужасе от такой смелости, в страхе, что их друга постигнет непоправимая немилость, окружили его и старались успокоить, но Наполеон не мешал ему высказываться; он все время оставался чрезвычайно спокойным и кротким. Вспыльчивый император сделался самым терпеливым повелителем. Удивительный знаток людей, он подчинял свои поступки чувству уважения. Искренно привязанный к тем, кто приобрел его любовь, он никогда не покидал их и в конце концов отдавал им справедливость, хотя очень часто заставлял их страдать от своей вспыльчивости и недостатков своего характера, он превосходно умел распознавать людей, истинно ему преданных, и многое прощал им. Вместо того, чтобы приказать Коленкуру замолчать, он просто сказал ему: “Что с вами? Кто сомневается в вашей верности? Я отлично знаю, что вы честный человек. Я только пошутил. Вы слишком обидчивы. Вы отлично знаете, что я вас уважаю. Теперь вы мелете вздор. Я больше не буду отвечать вам на то, что вы говорите”. Но так как сцена продолжалась, то, чтобы прекратить ее, он решил удалиться, прошел в свой кабинет и заперся. Коленкур хотел броситься за ним и потребовать отставки. Дюроку и Бертье пришлось силой удержать его. Впоследствии потребовались неимоверные усилия, чтобы этот выведенный из себя честный человек забыл свои обиды и вступил снова в отправление своих обязанностей. Честно, с редким мужеством предупредив императора, указав ему на ожидавшую его пропасть, он в конце концов согласился делить с ним до конца испытания и опасности кампании.
Послание, привезенное Балашовым, и ответ Наполеона были последними сношениями между разошедшимися навсегда союзниками Тильзита и Эрфурта. С этих пор и на предложения, и на угрозы Наполеона Александр будет отвечать ледяным молчанием. Не противник его, воздержавшийся от объявления войны насмерть, а он сам стремится к такой войне. Он поклялся, что бы ни случилось, выдержать ее и довести до конца. Чтобы предохранить себя от малейшей слабости, от каких бы то ни было уступок, он приготовился к поражениям, к занятию неприятелем своих городов, к опустошению своих провинций; он приучил себя к мысли временно пожертвовать половиной своего государства, чтобы спасти другую. Он уклониться от второй на территории Польши войны, которую предлагал ему Наполеон в виде короткого поединка, и вот начинается война в России, война без сражений, война с природой и пространством. 16 июля Наполеон выступил из Вильны. Израсходовав массу энергии на реорганизацию своих войск и на снабжение их провиантом, он двинул их на Двину и Днепр. Он все время старается изолировать и окружить ту или другую из русских армий, изобретает множество талантливых, грандиозных во всех отношениях достойных его комбинаций, которые, наверное, обеспечили бы ему победу, если бы чересчур большое развитие театра военных действий не позволяло неприятелю постоянно ускользать от него и расстраивать его планы преследования. В погоне за убегающим противником Наполеон будет идти все дальше и дальше. Он углубится в беспредельное пространство, пройдет по мрачной, таинственной империи и среди окружающей его со всех сторон тьмы инстинктивно направится к светлой, сияющей на горизонте точке, от которой он не в силах оторвать глаз. Он не решает еще бесповоротно идти на Москву, но судьба, которой он повинуется с самого начала своей карьеры, та судьба, которой он был и рабом и творцом, влечет его к этой столице. Его сверхчеловеческая судьба обязывает его непрерывно подниматься на все большую высоту: она позволяет ему держать в повиновении народы только при условии, что он постоянно поражает их новыми чудесами с постоянно возрастающим, исключительным блеском и величием. Москва – этот причудливый и волшебный город, город его мечтаний, притягивает его к себе еще и потому, что это почти азиатское завоевание обещает его гордости неизведанные еще наслаждения: оно искушает его, как захват нового мира. Наконец, он надеется, что, завладев национальной святыней русских, он вызовет в них столь сильное потрясение, что оно бросит их к его ногам. Чем труднее и тяжелее кажется ему война с русскими, чем больше она усеяна испытаниями и опасностями, тем упорнее цепляется он за надежду, дойдя до сердца России, быстро покончить войну с нею. Он сказал Коленкуру: “Я подпишу мир в Москве”.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Шестьдесят дней спустя Наполеон был в Москве. Его армия проложила кровавый след по русской земле. Этапы ее ознаменовались тяжкими испытаниями, страданиями, безрезультатными успехами и славными неудачами. Сперва бои под Островной и Витебском с Барклаем, который, отступая с большим расчетом, не давал случая разбить себя, затем Могилев, где Багратиону не было нанесено настолько сильного поражения, чтобы лишить его возможности продолжать свой круговой обход и соединиться с первой армией; далее Смоленск, где русская пехота была изрублена на месте и все-таки держалась сомкнутыми рядами. В Смоленске – остановка тягостная, тревожная; здесь констатированы были громадные потери – сто тысяч человек не явились на перекличку, – они вырваны были из армии болезнями и дезертирством; затем ужасная схватка при Валутиной; еще дальше лихорадочная, тщетная погоня за решительным сражением; наконец, столь желанный бой, ибо ропот войск заставил Кутузова принять сражение, от которого русские так долго уклонялись. Наступил день Бородина – тот адский бой, когда от пушечной пальбы земля дрожала на протяжении восемнадцати верст[657] и в котором полегло солдат не меньше, чем взрослого населения в огромном городе. После резни перед ним предстала, как огромный оазис среди пустынных равнин, Москва с ее белыми стенами, с ее покрытыми золотом, вермильоном и лазурью соборами с сияющими, как небесные созвездия, куполами, с ее дворцами, парками и зеленеющими садами. Но лишь только армия бросилась в город, добыча исчезла, унеслась в огненном облаке. Поселившись в Кремле, Наполеон царил над развалинами; его окружали одиннадцать тысяч сгоревших домов. Пожар продолжал делать свое дело, пожирая остатки города: среди сгоревших домов уцелело только триста сорок церквей, поднимавшихся над пеплом пожарища. Армия, пресыщенная награбленным добром, по горло засыпанная ненужным богатством, которое она отвоевала у пламени, отдалась, не смея заглянуть в будущее, беспробудному пьянству. В окрестностях Москвы было разграблено четыре тысячи усадеб и деревень. В лесах скиталось, уподобляясь первобытным людям, выгнанное из жилищ население в двести тысяч душ. Еще далее собирались уже шайки озверелых крестьян; они нападали на наши обозы, резали одиноких солдат или живыми закапывали в землю.