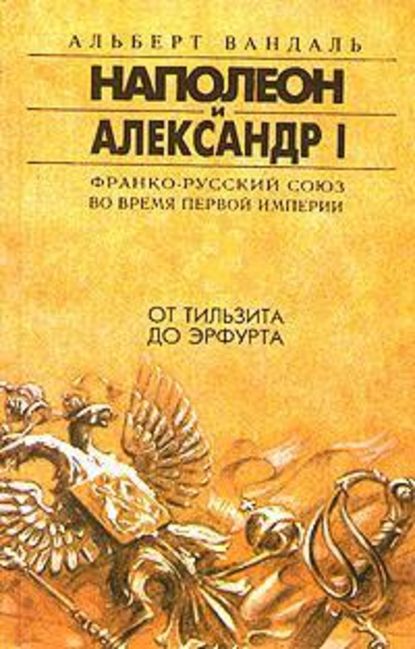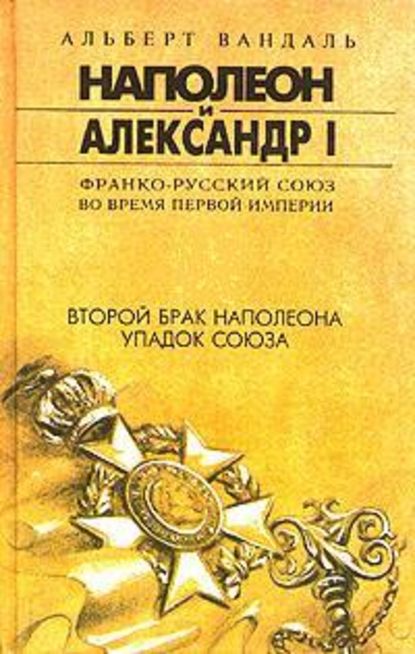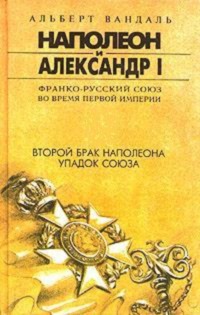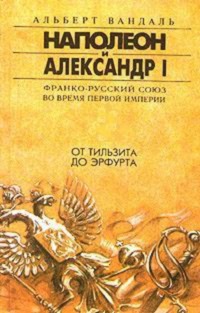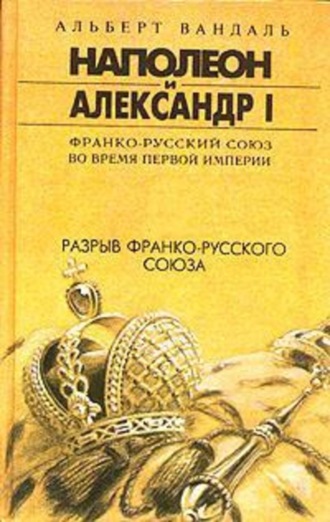 полная версия
полная версияРазрыв франко-русского союза
27 июня Александр собирался покинуть Вильну. Но предварительно он приступил к выполнению одной чрезвычайно важной формальности, которая должна была оправдать его, если не перед его совестью, то, по крайней мере, в глазах общественного мнения. 26-го он приказал позвать Балашова, который, исполняя должность министра полиции, в то же время состоял в числе его флигель-адъютантов и, обращаясь к нему на “ты”, что часто употребляется русскими государями в разговорах с подданными, сказал ему: “Ты, конечно, не знаешь, зачем я позвал тебя, – я хочу послать тебя к императору Наполеону”.[625] Затем он объяснил ему, что его миссия будет состоять в том, чтобы отвезти последнее предложение о переговорах о мире.
Конечно, у Александра не было ни надежды, ни желания остановить войну. Он знал, что вопрос о войне был решен столь же бесповоротно его противником, как и им самим. В расточаемых ему Наполеоном предложениях о примирении ему не трудно было разгадать: простую хитрость, которая имела задачей обмануть и парализовать Россию на то время, пока завоеватель подготовлял свои средства. Правда, если принять во внимание только показную сторону дела, то Наполеон несколько раз обращался к России с предложениями о примирении, на которые не получал ответа. Эти настойчивые усилия были истолкованы европейской публикой в пользу и в оправдание французского императора; из них сделали вывод, что, раз Россия систематически отказывается от последних шансов на мир, значит она желает войны. Чтобы рассеять это впечатление, Александру необходимо было не оставаться в долгу и ответить такими же благовидными попытками, восстановить в этом отношении равновесие и даже склонить весы на свою сторону. Наполеон отправил к нему флигель-адъютанта Нарбонна и он с своей стороны решил отправить флигель-адъютанта. В своем письме Наполеон выразил желание, прежде чем прибегнуть к оружию, исчерпать все пути к примирению. Не дав тогда ответа, Александр хочет составить его теперь в подобном же духе. В дни, предшествовавшие переправе через Неман, он подготовил проект письма к Наполеону. Он тоже сделал предложение вести переговоры, беря за исходную точку ультиматум, и, обнаруживая, наконец, свою затаенную мысль, прибавил, “что намерен открыть свои гавани судам всех наций, если Наполеон будет затягивать теперешнее неопределенное положение”.[626] Это значило под личиной желания мира сделать его совершенно невозможным. Так как теперь это письмо уже не годилось, Александр заменил его другим, которое и решил доверить Балашову. Во втором письме он порицал Куракина за просьбу о паспортах, которая послужила предлогом для нападения. “Если вы, Ваше Величество, – говорил он, – не намерены проливать кровь ваших подданных из-за подобного недоразумения и если согласны удалить ваши войска с русской территории, я сочту все, что произошло, не имевшим места, и примирение между нами всегда возможно”.[627]
Подобный шаг со стороны Александра, который должен был получить самую широкую огласку, покажется тем более достойным похвалы, что был сделан в ту минуту, когда его территория была уже нарушена, когда нападающие нахлынули на его границы. Заговорив о мире после того, как ему было нанесено грубое оскорбление – можно ли лучше показать искренность своих намерений, желание щадить человечество и избежать пролития крови? Превосходно изучив своего соперника, он не боялся, что тот поймает его на слове, а, между тем, облекаясь в тогу умеренности и кротости, он надеялся вернуть к себе колеблющиеся умы и окончательно привлечь на свою сторону сочувствие Европы.
В ночь с 27 на 28 он опять велел позвать к себе Балашова, передал ему письмо и в торжественных выражениях подробно истолковал его. Балашов должен был сказать, что переговоры могут начаться тотчас же, если Наполеон того желает; но при одном обязательном, “непременном” условии, чтобы французская армия предварительно переправилась обратно через Неман. “До тех пор, пока хотя бы один вооруженный солдат останется на русской территории, император Александр не произнесет и не выслушает ни одного слова о мире – в этом он клянется своей честью”.[628]
Балашов уехал тотчас же. Когда взошло солнце, он был уже в нескольких лье, в деревне Рыконты, занятой еще русскими, где ему сообщили, что в недалеком расстоянии находятся французские аванпосты. Тогда он взял с собой унтер-офицера из гвардейских казаков, рядового казака и трубача, и продолжал путь. Приблизительно час спустя вдали обрисовались силуэты двух стоявших на карауле французских гусар с поднятыми пистолетами. Заметив маленькую группу русских, гусары прицелились и хотели выстрелить; звук трубы остановил их. Они узнали сигнал, которым обыкновенно возвещалось по прибытии парламентеров. Один из гусаров галопом подъехал к Балашову, приставил к его груди пистолет и потребовал, чтобы он остановился. Другой отправился предупредить полкового командира, который доложил об этом неаполитанскому королю, находившемуся по близости аванпостов. Через несколько минут явился адъютант короля, которому поручено было проводить Балашова в главную квартиру принца Экмюльского, расположенную немного дальше, поближе к императору.
Продолжая путь с конвоем французских офицеров, Балашов вскоре столкнулся с блестящей группой свитских, во главе которой ему не трудно было узнать по “немного театральному” костюму самого Мюрата. Вот из чего состоял в высшей степени фантастичный наряд неаполитанского короля: большая шляпа полукруглой формы с развевающимися по ветру перьями, среди которых выделялся высоко и победоносно стоящий султан; зеленого бархата доломан, на манер гусарского, обшитый золотыми жгутами; наброшенный на плечо ментик; вышитые золотыми жгутами ярко-малинового цвета рейтузы; сапоги из желтой кожи; множество драгоценных украшений, и, в довершение эффекта серьги, драгоценные камни которых горели разноцветными огнями по обеим сторонам его лица. Когда Мюрат проезжал в таком наряде мимо наших лагерей, солдаты улыбались и находили, что он одет, “как тамбурмажор”. В бою же, когда покрывавшее его золото чернело от пороховой копоти, когда вихрь сражения трепал перья на его шляпе, когда стрельба из ружей и пушек окружала его молниями, он походил на сияющего золотом, неуязвимого бога войны. Увидав Балашова, он сошел с коня; Балашов последовал его примеру. Затем, сняв шляпу широким жестом, он, подобно изящному романтическому рыцарю, с улыбкой на устах, подошел к послу неприятеля. “Я счастлив видеть вас, генерал, – сказал он, – но сперва наденем шляпы”.
Завязался разговор. В продолжение некоторого времени в крайне вежливой форме шел спор по вопросу, кто желал разрыва, кто первый провинился и кто был зачинщиком. В сущности, Мюрату не нравилась эта война на краю света, оторвавшая его от теплой страны, где ему хорошо жилось и где он вошел во вкус королевского сана. Он страдал вдали от своего королевства и от своей семьи; жаловался на трудности сообщений, на редко приходившие к нему известия, ибо этот герой ста сражений обладал нежным сердцем и беспокоился за близких его сердцу людей. Вполне искренно он закончил разговор словами: “Я очень желаю, чтобы императоры сговорились и прекратили войну, которая началась вопреки моему желанию”. После этих слов, возвращаясь снова к призывавшим его важным обязанностям, он с любезной непринужденностью простился с Балашовым, сел на коня и долго еще вдали по виленской дороге виднелся колыхающийся круп его лошади и развевавшийся по ветру султан.
Совершенно иной прием оказан был Балашову в бедном домишке, где остановился принц Экмюльский. В походе этот знаменитый, суровый солдат отдавался весь своему делу. Он как бы мучился сознанием своей ответственности; лицо его было строго, озабочено, мрачно; подчас его дурное расположение духа прорывалось наружу, и он с скорбным видом вершил великие дела. В момент прибытия Балашова он был занят отправкой приказов, педантично готовил выступление в поход, приводил в движение свои 75000 человек и был крайне раздосадован, когда его оторвали от дела. Когда Балашов сказал, что ему поручено передать послание императору, и спросил, где находится Его Величество, маршал заносчиво ответил: “Ничего не знаю”, – и добавил; “Давайте ваше письмо, я ему доставлю”. Балашов ответил, что его государь строго-настрого приказал ему передать послание в собственные руки. Такой формализм окончательно вывел Даву из терпения. “Все равно, – с сердцем сказал он; здесь вы у нас: нужно делать, что вам велят”. Балашов передал письмо, но сумел дать понять, насколько его достоинство было оскорблено подобным насилием. “Вот письмо, маршал, – ответил он и, сам возвысив голос, сказал: “сверх того, я попрошу вас забыть о моей особе и вообще обо мне и помнить только о звании флигель-адъютанта Его Величества императора Александра, которое я имею честь носить”. Эти слова заставили Даву умерить тон. “Милостивый государь, – сказал он, – к вам отнесутся с должным вниманием”.
Действительно, пока он отправлял офицера с письмом к императору, он оставил у себя в той же самой комнате врага, который, по обычаям войны, был его гостем. Некоторое время оба молча, в смущении смотрели друг на друга, подыскивая, но не находя предмета для разговора. Даву имел угрюмый и рассеянный вид. Балашов после всего происшедшего считал, что не его дело делать первый шаг. Наконец, маршал нарушил это молчаливое tete-a-tete и, позвав адъютанта, сказал: “Пусть подают завтрак”. Вслед за тем весь штаб сел за стол. Во время завтрака Даву старался завязать беседу с Балашовым и поддерживать нечто вроде разговора, но во всех его словах проглядывало глубокое недоверие. В попытке начать переговоры он видел только ловкий ход, придуманный русскими, чтобы выиграть время с большими удобствами совершить отступление. Он напрямик сказал это Балашову. Кроме того, он не хотел, чтобы тот блуждал взорами по нашим войскам, позициям и боевым средствам. Чуя в парламенте шпиона, он хотел поскорее избавиться от него и с нетерпением ждал приказаний императора.
II
Скоро во всех частях французской армии узнали о прибытии русского эмиссара. Слух об этом распространился с быстротой молнии и произвел сенсацию в главной квартире, где возбудил среди некоторых чинов главного штаба, сожалевших об открытии враждебных действий, смутную надежду на мир. Что касается императора – он торжествовал. Он видел в этом первый признак растерянности русских и приписал появление Балашова страху, который обуял царя и его советников при известии о быстроте нашего вторжения. Он сказал Бертье: “Мой брат Александр, так гордо обошедшийся с Нарбонном, кажется, хочет уже примириться; он испугался. Мои манёвры смутили русских. Не пройдет и двух месяцев, как они будут у моих ног”[629].
Впрочем, он не торопился принять Балашова. Он попросил Даву задержать его у себя до нового приказания, решив попустить его в свое присутствие только после первой победы и взятия Вильны. Он решил, что прикажет привести к себе Балашова только тогда, когда после блестящего дела перед ним откроются врата Вильны, и что примет его в том самом городе, где этот посол получил инструкции своего государя. Стараясь постоянно бить на эффект, всегда тщательно заботясь о красивых декорациях и сценической обстановке, он рассчитывал ошеломить представителя России, приняв его в собственном дворце, даже в собственном кабинете императора Александра, и представши перед ним воплощенным олицетворением победы. Тогда только что начав войну и уже одержав победу, он будет вправе заговорить громко, предъявить в более суровой форме свои требования и, быть может, при посредничестве Балашова довести до сведения врагов первые основы капитуляции, которую хотел предписать им и которой рассчитывал быстро завершить кампанию.
Но прежде чем нанести задуманный удар, прежде, чем идти на Вильну, он принимает необходимые меры предосторожности для обеспечения успеха своему предприятию. Обставляя всегда чрезвычайно обстоятельно выполнение своих смелых планов, он проводит еще два дня, 25 и 26 июня, в Ковно, посвящая эти дни подготовке к бою, производству разведок, заготовке провианта и освещению местности. Он знал только то, что перед ним стоит первая русская армия под командой Барклая-де-Толли; этого мало: он хочет знать состав и распределение всех корпусов этой армии, хочет иметь сведения об их числе, силе и местонахождении; по его словам он хочет прежде всего “разобраться на этой шахматной доске”. Даву и Мюрату поручается исследовать местность на далекое расстояние. Этим корпусным командирам приказывается: быстро произвести разведки, но при этом избегать пускать в дело слишком сильные отряды, заботиться о том, чтобы не разбрасывать своих войск и не подвергать их опасности. Наполеон умеряет пыл Мюрата, стремительно бросившегося вперед и упрекает его в торопливости. Левое крыло постоянно заботит его. По его мнению, оно слабо и слишком выдвинуто вперед. Он уже перебросил по ту сторону Вилии часть корпусов Удино и Нея; он приказывает во что бы то ни стало разузнать о том, что происходит впереди них, устанавливает связь с дивизиями Макдональда, которые только что перешли Неман между Тильзитом и Георгенбургом и должны были действовать параллельно с главной армией. Он подгоняет стоящие еще на левом берегу Немана корпуса Евгения, которые должны были дойти до Прен, а не дошли еще и до реки[630]. Он хочет начать движение только тогда, когда обеспечит фланги и стянет войска. Тогда став во главе колонн, назначенных для главного нападения, он быстро двинет их на Вильну, где, по его расчетам, найдет готового встретиться с ним противника и где ждет его победа.
Эта надежда сразиться и победить под Вильной быстро рушилась. 26-го император узнал, что отряды нашей кавалерии находятся в расстоянии пяти лье от литовской столицы и что они подошли к ней, не встретив сопротивления. Неуловимая линия русских аванпостов отступала перед ними, нигде не задерживаясь и уступая малейшему натиску. Главные силы неприятеля покинули превосходную позицию в Троках, служившую оплотом Вильне, и, пройдя через Вильну, уходили по направлению к северо-востоку. Корпуса Витгенштейна и Багговута, с которыми Удино и Ней старались войти в соприкосновение, отходили в том же направлении. Все указывало на то, что первая русская армия действовала по заранее обдуманному плану – отступать, уклоняясь от боя.
Эти известия страшно раздосадовали императора. Сначала он не хотел верить этому и только по получении повторных и верных донесений уступил перед очевидностью[631]. Его досада вызвала в нем подъем энергии, подвинула его на лихорадочную деятельность. Видя, что неприятель уклоняется от сражения, он с жаром хватается за план захватить его врасплох в момент беспорядочного спешного отступления и, по крайней мере, отрезать и взять в плен несколько корпусов.
Часть войск Барклая-де-Толли, именно левое крыло под командой Тучкова и Дохтурова, находилась еще к югу от Вильны. Чтобы добраться до главного сборного пункта, который по всем данным был намечен на довольно далеком расстоянии к северу-востоку по направлению к Двинску и укрепленному Дриссинскому лагерю, этим войскам нужно было обогнуть Вильну и сделать длинный обход. Наполеон думал: если наша армия стремительно бросится на Вильну и, пройдя через нее, придет раньше русских на пункт, через который им неизбежно нужно пройти, то, может быть, ей удастся преградить им путь, отрезать отступление и нанести непоправимое поражение? Кроме того, стоявшая до сих пор на границах герцогства Варшавского вторая русская армия – армия Багратиона – наверное, должна тоже двинуться к северу на соединение с первой, чтобы оказать ей содействие в выполнении общего плана обороны. Не зная о нашем приходе в Вильну, колонны Багратиона наткнутся на неожиданно водворявшиеся в этом месте наши главные силы. Встреченные с фронта императором, подвергаясь с фланга нападению Евгения, преследуемые с тылу поляками Понятовского, саксонцами и вестфальцами Жерома, которым был отправлен приказ начать движение и вступить в Россию, они, вероятно, не вырвутся из этих тисков. Поэтому прежде чем распечатать послание Александра и дать ответ на его последние предложения, он успеет еще добиться блестящих результатов. “Если русские не захотят сражаться перед Вильной, – сказал он, – я заберу некоторую их часть”[632]. При достижении этой цели весь вопрос сводился к быстроте и выигрышу времени; требовалась только совокупность быстрых и точно выполненных маневров. 26 июня, днем, император приказывает ускорить движение на Вильну. Он предписывает всем корпусам снова двинуться в путь, идти вольно, быстро, без привалов и отдыха. “Ему хотелось бы дать всем крылья”, – говорит один очевидец.[633]
Получив такой энергичный приказ, армия в один дух отмахала около десяти лье, отделявших ее от Вильны, но этот усиленный переход потребовал от нее слишком большой затраты сил. Много солдат, взятых на службу слишком молодыми, не приобрели необходимой выносливости; они не могли угнаться за старыми; края дорог были усеяны отсталыми; некоторые умирали на дороге от усталости, изнурения, голода и жажды. Действительно, несмотря на необычную заботливость императора, армия не была в достаточной мере снабжена провиантом; до переправы у людей в мешках было провианта только на несколько дней, теперь “он был прикончен”. Обозы, везшие больше, чем нужно продовольствия, задерживались вследствие своего огромного количества, своей тяжести и того страшного загромождения, которые они создавали на своем пути. Они испытывали страшные затруднения и не могли поспевать за войсками. Большая часть повозок с хлебом, говядиной, дровами остались позади. Немногие повозки, которым удалось догнать колонны, брались приступом и, несмотря на сопротивление интендантов, взламывались и опорожнялись.
На дороге происходили сцены беспорядка и насилия; то тут, то там бушевала толпа; в воздухе стояли ругань и проклятия, – все это создавало новые препятствия, и страшно задерживало прибытие других обозов.
Лишенная самого необходимого, умирая с голода, большая часть армии должна была жить на счет страны, на счет той самой русской Польши, которую Наполеон, желая склонить на свою сторону, особенно хотел пощадить. Эта бедная, некультурная страна с трудом удовлетворяла свои собственные потребности; жилища встречались редко, в одиночку; деревни были расположены далеко от дорог, затеряны среди лесов. Чтобы добраться до них, солдатам приходилось бросать ряды, разбегаться в разные стороны и забираться далеко от дороги. Многие из них, как только замечали группу домов или одиночное жилище, собирались в шайки, набрасывались на добычу и угрозой и побоями отбирали у крестьян их скудное имущество. Они грабили хижины и уносили на дрова мебель, оставляя позади себя развалины, внося всюду опустошение и накликая на свою голову проклятие тех, которых пришли освободить. Число шаек, а также грабителей, действовавших в одиночку, увеличивалось час от часу. Мародерство—эта язва наших войск – принимало неслыханные размеры. Целые отряды, целые полки распадались, дробились, распылялись в человеческую пыль, которая падала на страну и опустошала ее. Эти беспорядки, эти признаки упадка дисциплины и распада – роковые предвестники будущего, возникли сами собой в силу создавшегося положения вещей. Обманывая все предварительные расчеты, сводя к нулю усилия гения, они указывали на главный недостаток предприятия – на слишком большие требования, которые поставил Наполеон слабым человеческим силам. Небывалых размеров военная махина, которую он смастерил, стесненная сложностью и необычайным множеством пружин, работала плохо, ее замысловатые колеса сразу же портились или отказывались действовать. Эта громадная машина, только что впущенная в ход, уже скрипела и разваливалась.
Наши кавалерийские авангарды подошли к Вильне в ночь с 27 на 28 июня; они без боя заняли превосходную оборонительную позицию – крутые высоты в три уступа, которые представляли природный укрепленный лагерь. “Самая стратегическая местность, какую только можно встретить”, – сказал знаток этого дела Жомини[634]. Не соблазняясь столь удачно приспособленной к сопротивлению местностью, конница и легкая пехота Неприятеля продолжали отступать. Наши войска наблюдали за их движениями и преследовали их по пятам. Временами, когда преследование становилось невыносимым, русские поворачивались к нам фронтом, вступали в непродолжительный бой, но затем снова отступали. Вблизи Вильны произошла довольно горячая, дичившаяся не в нашу пользу стычка, во время которой был взят в плен брат генерала Сегюра.
Тем не менее 28-го утром наши егеря и драгуны проникли в город. Население ждало нас и готовило нам встречу. Хотя среди жителей не было полного единодушия, но у большинства в резкой форме сказались патриотический пыл, страшная ненависть ко всему русскому и большой подъем духа. Радуясь нашему приходу, они ожидали увидеть освободителей, которые обойдутся с ними, как с союзниками и вместе с независимостью внесут к ним порядок. Вместо того они увидали толпу голодных, которые набросились на предместья города, взламывали лавки, грабили трактиры и склады с провиантом и тащили все, что попадалось им под руку. При таком зрелище ужас напал на всех; все думали только о том, чтобы запереться и забаррикадироваться у себя в доме, укрыть в надежном месте свое добро и спрятаться самим подальше. Царивший при нашем вступлении беспорядок сразу остановил народный порыв и охладил энтузиазм.
Между тем вслед за авангардом крупной рысью въехал в город император со свитой и частью своего штаба. Он был уверен, что в Вильне его ждет такой же прием, как в Познани. Он надеялся, что его встретит взрыв радости; что на пути его будут триумфальные арки; что прелестные польки, которые в других местах разжигали умы и всей душой отдавались делу народного возрождения, будут усыпать путь его дождем цветов. Он учитывал этот порыв польских чувств и включил его в свои расчеты. Он надеялся, что литовская столица при первом же его появлении перейдет на его сторону; что она поднимет знамя мятежа и даст толчок остальным частям провинции; что воодушевленная этим примером русская Польша целиком встанет под его знамена и облегчит его задачу, выставив против России, рядом с нашей армией, воскресшую, ожившую нацию. Он вступил в Вильну в девять часов утра. Вместо праздничного, обезумевшего от восторга и любви к нему города, о котором он мечтал, он нашел мертвый город. Длинные, некрасивые и пустынные предместья носили следы погрома; в центральных кварталах с мрачными и красивыми улицами царили безмолвие и тишина; нигде не показывались шедшие ему навстречу толпы обывателей; в окнах – ни одного женского лица. Только несколько человек из подонков населения, главным образом, жиды, с гнусным, подобострастным выражением трусливо прокрадывались вдоль стен.
В первую минуту этот холодный прием не особенно огорчил императора. Он мог быть объяснен неожиданностью его приезда. По своему обыкновению он не объявил о своем прибытии; следовательно, возможно, что он захватил всех врасплох. Может быть, думал он, нужно дать обывателям время опомниться; нужно подождать, пока они выйдут ему навстречу, проявят усердие и подготовят прием? Он проехал вдоль всего города до противоположного конца к перекинутому через Вилию деревянному мосту, по которому при отступлении только что прошли русские. Здесь его ждало новое разочарование: мост представлял из себя дымящуюся, догоравшую развалину. Чтобы задержать преследование, неприятельская армия зажгла его позади себя. По берегам реки поднимались к небу густые столбы дыма; несколько рядов построек поблизости реки превратились в пылающий костер. Это было все, что осталось от многочисленных амбаров, куда русские в течение восемнадцати месяцев складывали всевозможные продовольственные припасы. Вынужденные бросить эти богатые склады, драгоценный клад для нашей лишенной пока всего необходимого армии, они отдали их пламени, лишь бы они не доставались нам.
Эта картина разрушения заставила императора призадуматься; в течение некоторого времени он как вкопанный смотрел на нее. Между тем вокруг него стало собираться простонародье. Он спросил стакан пива и поблагодарил, сказав Dobre piwa, хорошее пиво. Он выучил несколько польских слов и пользовался ими при всяком удобном случае[635]. Он принял меры для ограничения пожара; сделал смотр одной дивизии; затем вернулся в город и направился к дворцу, в котором хотел остановиться.
“Немыслимо, – думал он, – чтобы за это время не распространился слух о его приезде. Ведь должны же были видеть, как проехали и вошли во дворец остальной его штаб, его слуги, экипажи, его штат – все, что обыкновенно сопровождало его”. Несмотря на столько безусловных признаков его присутствия, вид города не менялся; никого не появилось у окон, не было и помину об украшениях; улицы по-прежнему были пустынны; ни малейшего следа восторга или даже простого любопытства. Теперь император не мог побороть своего волнения, его разочарование прорвалось наружу. Когда он въехал во двор дворца и сошел с коня, когда поместился в апартаментах императора Александра, когда занял покои, где проживал его бежавший соперник, его лицо не выражало гордости от сознания, что он так победоносно занял его место. С грустью вспоминая прошлое, он сравнивал холодность Вильны с теми страстными возгласами, с какими его принимали в городах великого герцогства, и не мог удержаться, чтобы не сказать: “Здешние поляки совсем не похожи на познанских поляков”[636].