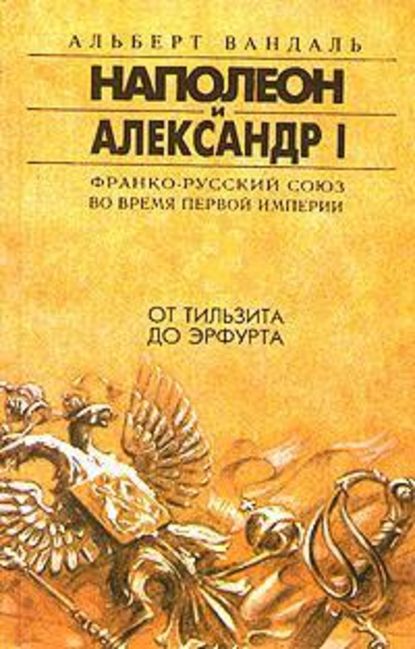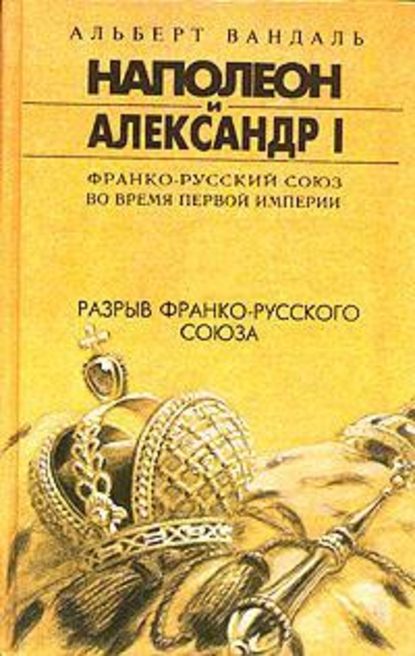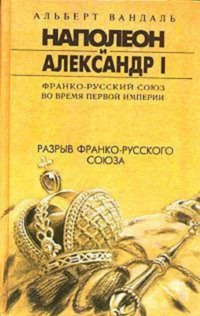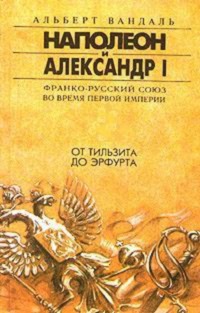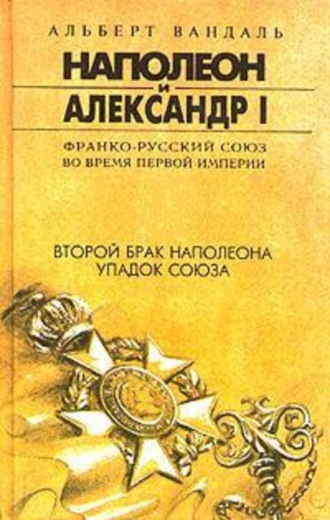 полная версия
полная версияВторой брак Наполеона. Упадок союза
Вместо истинных услуг, в которых мы так нуждались, Александр осыпал нас любезностями. Прежде всего, он послал Наполеону свои пожелания, затем восторженные поздравления. В начале враждебных действий он, видимо, с мучительным нетерпением ждал известий с Дуная; он не мог дождаться известия о том, что император находится при армии, – “его гений стоит целых армий”,[99] – говорил он. После Абенсберга и Экмюля он рассыпался в восторженных выражениях удивления по поводу прекрасных операций, давших столь блестящие результаты. Зачем, говорил он, он не возле Наполеона, деля с ним опасности и славу! Он говорил, что, по крайней мере, ему хотелось бы иметь при Наполеоне, на время его походов, своих специальных представителей – для того, чтобы русский мундир появился во французском генеральном штабе как неопровержимое доказательство союза. Он приказал отправиться в нашу главную квартиру одному за другим двум флигель-адъютантам, полковникам Чернышеву и Горголи, которым было поручено передать Наполеону приветствия и восторженные письма.
Он говорил, что завидует своим адъютантам в милости, которую им оказывает – видеть великого полководца в момент проявления его военного гения и учиться в его школе. “Может ли быть лучший случай для военного?”,[100] – сказал он. Узнав, что один проживавший в Париже русский офицер, приглашенный Наполеоном принять участие в войне, уклонился от этой опасной чести, он сказал Коленкуру: “Вся кровь вскипела во мне, когда я прочел об этом. Нужно не иметь ее в жилах, чтобы поступать таким образом. Я чуть было не запретил ему носить мундир. Если бы я, без особых затруднений, мог покинуть Петербург на два месяца, я был бы уже там, куда он не захотел отправиться. Есть же такие бесчувственные люди”.[101] Однако же, замечание, которое позволил себе сделать Коленкур, что французской и русской армиям предназначено было сблизиться и что в это время император Александр мог бы приехать к своей армии, сразу же остановило излияние государя. “Он улыбнулся, как будто нечто подобное было у него на уме, но ничего не ответил положительного”[102].
Чтобы побудить царя хотя бы только начать военные действия, наш посланник ссылался на принятые царем обязательства, на данное слово. Он указывал и на то, что честь царя заинтересована в том, чтобы отнюдь не оставлять Наполеона одного выдерживать первый натиск врагов. Когда же он исчерпал свои обыкновенные доводы, он нашел другие, новые и совершенно неожиданные. Он представил в своеобразном виде положение Европы и те обязанности, которые вытекали отсюда для русского самодержца.
По его мнению, если внимательно вникнуть во все происходящее, настоящая война служила только продолжением борьбы, завязавшейся семнадцать лет тому назад между основами порядка, т. е. социальным консерватизмом, и разрушительными страстями, но с той разницей, что роли совершенно переменились. Наполеон сделался защитником всех государств против Австрии, перешедшей телом и душой в революцию; Австрия же из ненависти и честолюбия повторила ошибки, в которых так упрекали Францию в 1792 году, и впала в якобинство. За доказательствами недалеко ходить; стоит только прочесть ее манифесты и зажигательные воззвания к немецкому народу и тирольцам, и, в особенности, обратить внимание на ее усилия вызывать в соседних государствах восстания и повсюду распространять огонь мятежа. Далее, – говорил он – не состоит ли она с давнего времени в преступных отношениях с крамольниками всех стран; не поддерживает ли при всех дворах, особенно при русском, происки светской оппозиции? В настоящее время вреднейшие революционеры не на улице – они в салонах. Это те угрюмые, вечно недовольные умы, которые восстают против законно установленного порядка, которые хотят восстановить навсегда похороненнoe прошлое, и упорно преследуют свою химеру, хотя бы ценою жесточайших междоусобиц. Вступая с ними в союз, венский двор подкапывает под все установленные власти и стремится ко всеобщему перевороту.
“Я дал понять его Величеству, – писал Коленкур Наполеону, – что Австрия пользуется теми же самыми средствами, как и люди, создавшие революцию во Франции, что если бы ей удались ее планы – она, порвав все узы, связующие народы с государями, не только не могла бы управлять событиями, но и сама сделалась бы их жертвой, что всем государям следует бороться с принятым ее направлением, ибо иначе и им предстоят те же самые опасности. Я говорил императору о салонах, о их злословии, о том влиянии, какое они имеют в Вене и могут иметь и в других местах, если только этот новый пример с его ужасными последствиями не приведет к решению обуздать их. Я сказал Его Величеству, что дошедшее до крайних пределов раздражение известной части салонов направлено не против Франции или государя, а против того, кто первый обуздал своеволие и разыгравшиеся страсти нашего времени. Что оно направлено против того, кто остановил революционный поток, угрожавший престолам и общественному строю и принимавший в каждой стране характер оппозиционного духа и критики. Что с тех пор, как американские и английские идеи вскружили всем головы, нигде не осталось ничего святого, что русские, немецкие и французские щеголи считают себя вправе судить государей и рассуждать об их поступках, как, например, Палата общин судила герцога Йоркского и госпожу Кларк[103].
Что Стадион, – который нападает на верховную власть и общественный строй Германии и обращается к Франции с заявлениями, что император Франц ведет войну не с ней, а только с императором Наполеоном, – мне кажется, такой же якобинец, каким был и Марат. Что наименьшим злом, какое может быть следствием системы, выдвигаемой Австрией, будет такая же анархия, как и во время тридцатилетней войны, с тою только разницей, что результатом ее будет революционный режим, что эти, так называемые, благонамеренные люди Петербурга, Парижа и Вены не что иное, как анархисты, такие же, как и анархисты 93 года; что разница только в костюме; что анархисты 1809 года, под маской роялистов, точно также нападают на общественный строй, – одни – разнося повсюду в Германии лозунг германской независимости и свободы, другие – непрестанно осуждая государя и порицая все действия правительства; что, в конце концов, эта секта выступает против Вашего Величества еще с большим ожесточением, чем против других государей, ибо вы первый увидели, куда направлены их усилия и крепко прижали всех анархистов, как роялистов, так и якобинцев, что не следует щадить правительства, которое прославляет эту разрушительную и революционную систему, как не щадили сумасшедших, которые гильотинировали людей, дабы осуществить свою мечту”[104].
После того, как Коленкур пространно развил эти идеи, заговорил царь и решительно высказался в том же духе. Он согласился, “что многие возвышают голос против императора Наполеона только потому, что он подавил анархию и наложил узду на своеволие”[105]. Посланник расстался с царем после двухчасового разговора, установив полное согласие во взглядах. Но общность взглядов ни на йоту не подвинула операций русской армии. Правда, Александр делал вид, что больше всех раздражен такой медлительностью, что его возмущает апатия военачальников. Но, – прибавлял он – где же средство? Финляндия и Турция отвлекли всех деятельных и опытных офицеров. По его словам, чтобы назначить главнокомандующего армией против Австрии, ему пришлось обратиться к престарелому генералу, живущему уже второй век – к ветхой развалине, уцелевшей от древних войн. Он говорил, что князь Голицын ведет кампанию так, как это делалось в его время, не торопясь, шаг за шагом, что он вовсе и не подозревал того, что правила и достойные подражания случаи наполеоновской тактики внесли много нового в искусство побеждать, и в заключение он сказал сокрушенным тоном, но с видом полной искренности: “Это все еще старая рутина Семилетней войны… Не будем его торопить, – прибавил он, говоря о Голицыне – а то он наделает глупостей”[106]. Впрочем, он не допускал и мысли, чтобы его генералы, не говоря уже о нем самом, могли быть заподозрены в недостатке корректности. “Это только апатия, а отнюдь не злая воля”,[107] – говорил он. Румянцев также сказал Коленкуру убежденным тоном: “Мы неповоротливы, но идем прямым путем”.[108] На самом же деле русские совсем не двигались с места, и вот по какой причине: приказ вступить в Галицию, который 27 апреля обещано было послать “в тот же вечер”,[109] не был еще отослан из Петербурга и 15 мая.[110] Это уже был не недостаток подвижности у русских генералов и офицеров, действительно им свойственный, а отсутствие желания у государя, ибо это он держал армию в бездействии на одном месте.
Это умышленное бездействие, вполне отвечающее данным Австрии уверениям, было более чем нарушением клятвы: это была самая крупная ошибка, какую только могла сделать Россия, принимая во внимание только ее собственные интересы. И в самом деле, всего более – и вполне справедливо – она боялась, чтобы решительные события этой войны не обусловили или не подготовили восстановления Польши путем присоединения Галиции к Варшавскому герцогству. Вполне естественно, что – при известии о наших победах – в Галиции, доставшейся по разделу Австрии, должны были возродиться национальный дух и стремление к независимости; что она должна была восстать, лишь бы дали ей на это время и возможность; что она призвала бы к себе своих братьев из великого герцогства и встретила бы их с распростертыми объятиями. Соединение этих двух частей разделенного народа совершилось бы под покровом войны по вполне естественному влечению. Победоносному Наполеону, который нашел бы уже восстановленное государство, не оставалось бы ничего иного, как только узаконить совершившийся факт. Ему пришлось бы не восстанавливать а только признать Польшу. Итак, опасность для России была бесспорная, но от нее самой зависело отвратить ее: ей стоило только самой вступить в Галицию, занять ее и властно распоряжаться в ней. Благоприятные условия – как то: топография местностей и начальный характер военных действий на Севере – в высшей степени облегчали ей эту задачу.
Австрийская Галиция, в то время более обширная, чем теперь, занимала оба берега реки Вислы и граничила с Россией на протяжении ста пятидесяти миль. Между ней и Россией не было ни крепости, ни рек – никакого препятствия, которое могло бы остановить русские войска. Сверх того, выйдя из Галиции, чтобы напасть на великое герцогство, расположенное от нее на север и на запад, эрцгерцог Фердинанд принужден был вывести оттуда лучшую часть своих войск. Он предоставил ее самой себе, оставив там только кое-где гарнизоны и отдельные отряды. Таким образом, обернувшись спиной к русским и идя на Варшаву, он отдавал Галицию в их руки. Князю Голицыну оставалось только подвигаться вперед и без выстрела занять эту провинцию; затем напасть на армию эрцгерцога с фланга или с тыла, заставить его дорого поплатиться за свою смелость, и, оказав этим обещанную услугу общему делу, обеспечить безопасность России от случайностей будущего. Войдя в Галицию первым – прежде чем войска великого герцогства, вынужденные сперва обороняться, имели бы время туда проникнуть, – он овладел бы ею именем царя. Он мог бы беспрепятственно подавить в ней всякое проявление польского национального духа, поручить ее ревнивой охране своих войск и наложить на нее секвестр. Заручившись предварительным решением и наложив руку на предмет спора, Россия могла ко времени заключения мира на законном основании удержать Галицию за собой и располагать ею по праву завоевания; ничто не помешало бы ей возвратить ее австрийцам или заставить признать своей собственностью. Следовательно, действовать быстро, без колебаний, было для нее не только решением, наиболее соответствующим ее обязательствам, но и менее всего компрометирующим ее и наиболее обеспечивающим ее интересы. В настоящем случае добросовестное отношение к своим обязательствам было бы само благоразумие. Наоборот, удерживая неопределенное время свои войска на границе, она лишила себя права влиять на дальнейшие судьбы Галиции; она предоставила полякам свободу действий, вследствие чего те могли прийти в Галицию раньше нее, она позволила им воспользоваться восстанием в Галиции как диверсией против нападения на них австрийцев, и, уступая место своим невольным союзникам, намерениям которых она справедливо не доверяла, неразумно предоставила им первую роль.
Последствия ее поведения, которые легко было предвидеть, не заставили себя ждать. Застигнутый врасплох вторжением австрийской армии, шедшей на Варшаву по левому берегу Вислы, Понятовский сперва отступил. Затем, спасши честь своего оружия в неравном бою при Рашинах, он покинул столицу, предоставив эрцгерцогу войти в пораженную ужасом Варшаву, и перешел со всеми своими силами на правый берег, за Прагу – предмостное укрепление, которое господствовало над рекой и защищало переправу. Выбирая для отступления такое направление, он давал возможность отрезать себя от Германии и от союзной Саксонии, но зато оставался в исключительно польском крае, в соприкосновении с частями Галиции, лежащими на восток от Вислы, в непосредственном соседстве с великим герцогством. Благодаря этому он сохранял за собой возможность, пока неприятель занимал столицу и двигался к северу, неожиданно свернуть на юг, напасть на Галицию, перенести войну на австрийскую территорию и освободить Варшаву под стенами Львова и Кракова. Он принял это отважное решение по собственной инициативе, еще до того, как передан был ему от князя Невшательского совет императора[111]. Получилось странное зрелище: оба противника повернулись друг к другу спиной и пошли в противоположные стороны. Эрцгерцог Фердинанд, отказавшись взять силой переправу через Вислу, направляется по левому берегу реки на север, подвигает свои войска до Торна и угрожает Данцигу; а Понятовский поворачивает на юг и, идя по правому берегу, бросается в Галицию.
В первых числах мая Понятовский вступил в Галицию. При его приближении население поднялось и бросилось к нему навстречу. Пример подали представители дворянства – крупные помещики. Многие из них жили в имениях, были богаты и пользовались влиянием. Польша не умерла в их сердцах, хотя ее враги и думали, что, нанеся ей три смертельных удара, покончили с ней навсегда. Укрывшись в своих помещичьих владениях, они носили по ней траур и свято чтили ее память. Княгиня Чарторижская собрала в центре своего обширного, как город, поместья – Пулавы – в особом здании реликвии польских королей и героев, посвятив этот храм или, вернее, мавзолей, утраченной отчизне.[112] При виде Понятовского воскресли надежды и вера в будущее. В этом изящном и рыцарски неустрашимом герое, поклоннике славы и пиров, который, при звуках труб и фанфар, при звоне оружия, ехал во главе своего штаба, Польша увидела олицетворение самой себя. Дворянство встречало его во главе своих вооруженных арендаторов и крестьян, из которых сформированы были полки. Женщины устраивали ему восторженные приемы и празднества. Всюду, где он ни останавливался, был смотр утром, бал – вечером. Из замков движение распространилось по окрестностям. Ежеминутно ряды армии расступались, чтобы дать место новым добровольцам. Приходили даже старцы, оставшиеся в живых после войн за независимость. Они просили позволения отомстить зa своих погибших товарищей, – разрешить убивать австрийцев. Застигнутые врасплох и растерявшиеся имперские власти и гарнизоны уходили или сдавались. Да к тому же гарнизоны, состоя отчасти из уроженцев Галиции, внутри самих себя таили измену и мятеж. Когда после сдачи Сандомира австрийский гарнизон проходил церемониальным маршем перед победителями, бывшие в его составе солдаты из галичан, как только заметили польские мундиры и знамена с водруженным на них белым орлом, прорвали ряды и, не повинуясь голосу своих офицеров, побежали, чтобы встать под обожаемые знамена.[113] Сопротивление нигде не было серьезно, 9 мая войска герцогства вступили в Люблин, 20-го в Замостье и 23-го во Львов.
По прибытии в этот город, Понятовский попытался дать восставшей провинции некоторую организацию н привести в порядок сбежавшиеся с разных сторон вооруженные партии. Для Галиции было учреждено временное правительство; была сформирована милиция и снабжена всем необходимым. Чтобы еще более воодушевить тех, кого он призывал к оружию, Понятовский льстил их патриотическим надеждам. Не объявляя положительно о присоединении их к великому герцогству, он убеждал их ожидать всего от будущего и вверить свою судьбу Наполеону. В прокламации, выпущенной от имени саксонского короля, говорилось, что их дальнейшая судьба будет зависеть от их собственного мужества и покровительства победоносного героя”. В распространяемых в изобилии уличных листках, газетных статьях, дневных приказах повторялись те же слова. Зажигательные речи, пущенные в население, возбужденное борьбой, опьяненное энтузиазмом, истолковывались им, как обещание вернуть ему отчизну[114].
Слух обо всем этом быстро дошел до Петербурга. Он вызвал там невыразимую тревогу и ужас. Опасность, которой там страшились, которую до сих пор только смутно провидели в туманном будущем, приближалась и принимала вполне определенные формы. Призрак превращался в действительность. Для России ясно было, что происходящим на ее глазах возрождением Польши затрагиваются ее жизненные интересы; что опасность угрожает ее единству, и она не на шутку встревожилась за обладание провинциями, которые достались на ее долю при трех последовательных разделах.
Надо сознаться, что прискорбные и характерные симптомы оправдывали ее опасения. Возмущение не ограничилось Галицией, оно перешло и русскую границу; опасное брожение началось на Волыни и в Подолии. В некоторых уездах исчезла вся молодежь: все бежали в вольную страну и поступали под знамена Понятовского. Ни надзор властей, ни объявленные строгие наказания не могли помешать эмиграции. В Каменец-Подольске увлечение было так сильно, что правительственные чиновники, поляки по происхождению и чувствам, исчезли все сразу, так что присутственные места опустели и должны были закрыться.[115] Великое герцогство и Галиция похищали у русского государя его подданных и должностных лиц, увлекавшихся заразительным примером. Заокраинная Польша как бы притягивала к себе ту часть Польши, которую поглотила Россия, не сомневавшаяся пока в крепости своих объятиий. Можно судить о впечатлении, какое производили эти известия в Петербурге, попадая в среду уже недоверчивую и предубежденную. Общество воспользовалось случаем, чтобы сильнее напасть на политику Александра. Так вот, говорило оно, только для того, чтобы достигнуть подобных результатов, царь протянул руку узурпатору и согласился быть его помощником и соучастником. Теперь ясно обнаруживаются следствия этой злосчастной системы; сомнение более недопустимо; далее заблуждаться были бы преступно и святотатственно. Необходимо признать, что союз с Францией; вновь создавая Польшу, прямым путем ведет к расчленению государства[116].
Среди гневных и злобных воплей Александр оставался бесстрастным и кротким; он далек был от того, чтобы выражать сочувствие общему раздражению, и старался успокаивать умы. Чтобы разубедить своих подданных, он притворился, что совсем не разделяет их беспокойства. Но, когда он был наедине с французским посланником, его лицо, фигура, разговор – все обнаруживало неотступную заботу и боязнь, чтобы Наполеон не задумал и не подготовил восстановления Польши. Если в словах царя слышалась скорее скорбь, чем горечь, то слова Румянцева становились трагическими. Воспитанник Екатерины II, живой свидетель разделов, старый министр привык смотреть на поддержание созданного разделами порядка вещей, как на жизненную потребность России. Как ни велики были его французские симпатии, он не задумался бы пожертвовать ими ради высшего интереса и торжественно предложил бы нам на выбор или Польшу, или Россию. Он не скрывал, что в его глазах присоединение Галиции к герцогству будет причиной разрыва, что император Наполеон должен выбирать между Петербургом и Варшавой. “Я сторонник нашего союза, говорил он Коленкуру; я очень им дорожу, вам это известно… Я более чем доказал это, я могу это сказать. И все-таки я почту своим долгом сказать Императору, моему повелителю: отречемся от нашей системы, будем биться до последнего человека, но не потерпим расширения польских владений, ибо это посягательство на наше существование”.[117] С этого времени император и министр на разные лады жаловались на то, что делается в Галиции с одобрения Наполеона или, по меньшей мере, без помехи с его стороны. Они делали его ответственным за то, что он дал толчок к происходящим там волнениям, за воззвания, обращенные к национальным страстям, упрекали его в том, что он стремится воскресить вопрос, который будет могилой союза.
На это Коленкур вполне основательно возражал, что Россия прежде всего должна во всем винить самое себя, что от нее самой зависело завладеть с самого начала Галицией и не допускать, чтобы на ее границах создался очаг польской пропаганды; что причиной всему были ее проволочки, их даже нельзя было приписывать исключительно вялости и небрежности, ибо злая воля начальников и их небесполезное сочувствие врагу были только что доказаны на деле. В ответ на упреки царя Коленкур представил ему доказательства своих слов. Это было перехваченное поляками письмо, написанное эрцгерцогу Фердинанду русским генералом, князем Горчаковым. Оно дышало страшной ненавистью к Франции; в нем открыто высказывалась надежда на скорое сближение русских с австрийцами для совместной борьбы за правое дело.
Сообщение о поведении Горчакова ошеломило Александра. Это тем более удивляет его, говорил он, что “этот генерал был одним из тех, – а это удостоверяется донесениями почты, – которые писали в Москву в самом лучшем духе”.[118] Впрочем, говорил он, с ним будет короткая и примерная расправа: он отрешит виновного от командования и переведет его в военный совет. Но при этом он дал понять, что его удивляет и глубоко оскорбляет, что из единичного проступка хотят вывести заключение об общем направлении, что за вину одного человека хотят сделать ответственным правительство в полном его составе. Где же то доверие, говорил он, которое должно царить между союзниками Тильзита и Эрфурта и которое должно играть первенствующую роль во всех их сношениях? Тем не менее, хотя царь и горячился, он тщательно устранял из своей речи все, что могло задеть или оскорбить посланника лично; напротив, в его упреках было что-то нежное, подкупающее. В продолжение всего этого разговора он несколько раз вплотную подходил к своему собеседнику, обращаясь к нему с дружескими жестами, с трогательной заботливостью выбирая выражения, как будто он хотел убаюкать его льстивыми словами, задобрить ласковым обращением и усыпить его бдительность. Он закончил беседу трогательной сценой. Он стал уверять, что хотя несправедливые подозрения и оскорбляют его до глубины души, он все-таки предпочитает, чтобы Коленкур высказывал ему все откровенно; что именно в этом тоне должно говорить с ним, что именно таким образом любит он объясняться с человеком, который пользуется его уважением и любовью. “Говоря это, прибавляет посланник, Его Величество соблаговолил обнять меня”[119].
В том же разговоре Александр опять подтвердил, что его войска скоро выступят в поход, что он повторил приказание перейти границу, “хотя бы с одним патрулем”.[120] Он видел, что для дальнейших проволочек нет оправданий, ибо война со Швецией подходила к концу. Регентство в Стокгольме просило о переговорах, и замирение на Севере, в пользу которого Коленкур работал изо всех сил, давало в распоряжение России лишнюю армию. Но, к несчастью, даже допуская, что царь употребит некоторое усилие нагнать потерянное время, было уже слишком поздно. Для того, чтобы его армия могла остановить национальное движение поляков и оказать содействие, имеющее значение для успеха наших военных операций, время было упущено. В это самое время борьба между Наполеоном и Австрией достигла решительного момента, и в эти-то критические часы Россия не пришла нам на помощь. Приближался конец мая, шесть недель прошло после первого пушечного выстрела. Если бы русские с самого начала действовали быстро и добросовестно, они за это время могли бы занять Галицию, пройти через нее, рассеять или оттеснить армию принца Фердинанда, затем, увлекая за собой поляков, могли бы, пройдя через Краков, направиться на Ольмюц и появиться внушительной массой на севере Моравии. В южной части этой провинции, на равнине Маршфельда позади Дуная, совсем вблизи Вены, эрцгерцог Карл стоял перед французами и собрал все силы для обороны этой позиции. Если бы русские предприняли нападение на него с тыла, он задумался бы над тем, стоит ли удерживать укрепленную позицию только для того, чтобы рискнуть на сражение, с проигрышем которого терялось все. Из боязни попасть между двух огней, он, вероятно, отступил бы направо или налево, в Богемию или Венгрию, предоставляя Франции и России протянуть друг другу руку в Моравии и встретиться друзьями на поле Аустерлицкой битвы. Лишенная последней операционной базы, рассеченная посредине, Австрийская монархия должна была бы отказаться от сопротивления и просить пощады. Но Голицын не трогался с места, а поляков было слишком мало, чтобы собственными силами выполнить ожидаемую диверсию; они могли захватить и поднять одну австрийскую провинцию, но отозванной из-под Варшавы армии Фердинанда было вполне достаточно, чтобы остановить их и держать вдали от главного театра военных действий. Обеспеченный с тыла, уверенный, что русские не придут вовремя, чтобы напасть на него, эрцгерцог Карл мог оставаться на Дунае, мог ожидать Наполеона под прикрытием этой преграды и в бессмертных боях оспаривать победу.