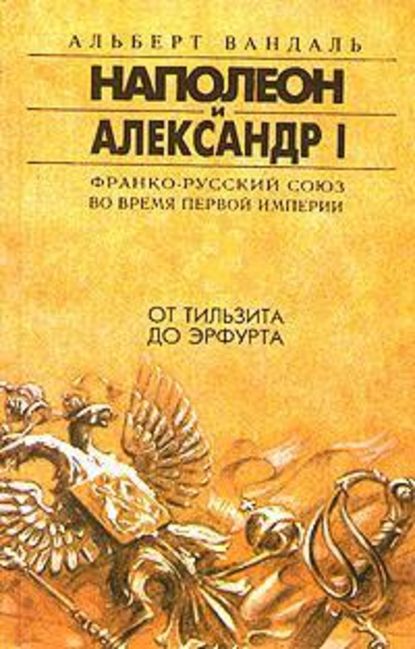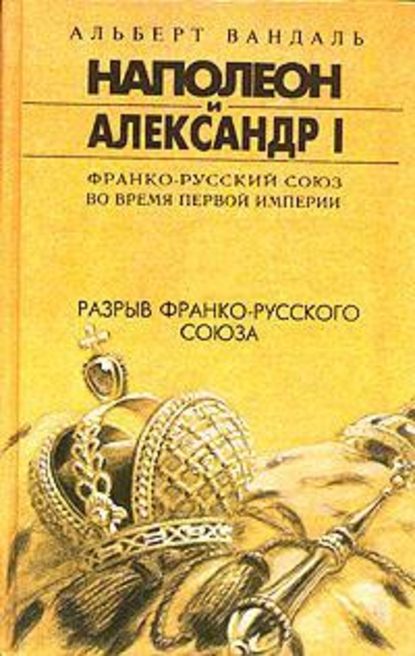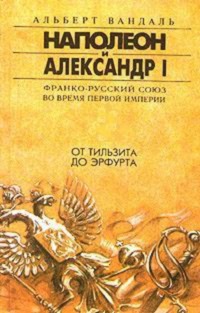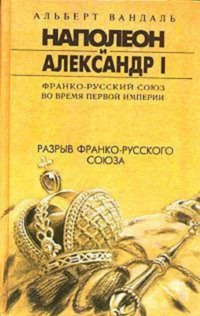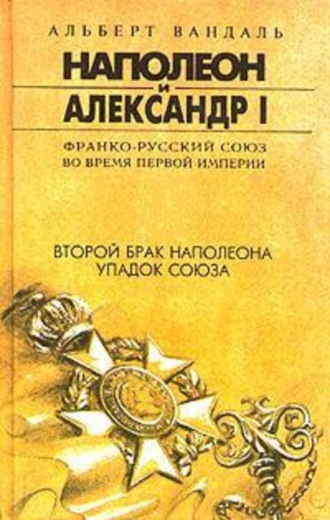
Полная версия
Второй брак Наполеона. Упадок союза
49
Письмо от 17 февраля 1809 г. Archives de Saint-Petersbourg.
50
Донесение Шварценберга от 15 февраля 1809 г., цитируемое Вееr'ом op. cit. стр. 349.
51
“Часто случается, что император, ничего не имеет в виду в своих разговорах, и угощает, так сказать, тем блюдом, о котором думает, что оно нравится его собеседнику”. Mémoires du prince Adam Czartoryski, t. II, 218 – 219.
52
Письмо от 10 февраля 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.
53
Письмо императору Александру, 26 января – 7 февраля 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.
54
Id., 23 – 24 января 1809 г. Arhives de Saint-Pétersbourg.
55
Слова Талейрана Меттерниху, Beer, Zehn Jahre oesterreichischer Politik, стр. 365.
56
Румянцев императору Александру, 28 января – 9 февраля 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg
57
Впоследствии Талейран сносился со императором Александром частью непосредственно, частью при содействии Нессельроде и Сперанского. Archives de Saint-Pétersbourg et Recueil de la Société impériale d'histoir de Russie, t. XXI.
58
Mémoires de Metternich, II, 266.
59
Андреосси Шампаньи, 14 ноября 1808 г.
60
“Согласно интимной хронике того временя, эти украшения сделались до такой степени необходимыми в обиходе князя, что он с утра носил на своем халате полный их комплект”. Baron Ernouf, Maret, duc de Bassano, p. 305.
61
Archives nationales Esprit public, F 7, 3719 et 3720. Vassiltchikoff, ies Razoumovski, IV, 384 – 424.
62
Mémoires de M-me de Remuzat, III, 342.
63
Румянцев императору Александру, 12 – 24 января 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.
64
Id., 30 января – 11 февраля 1809 г.
65
Румянцев императору Александру, 30 января—11 февраля 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.
66
Id.
67
Id.
68
Шампаньи Коленкуру, 7 февраля 1809 г.
69
Андреосси Шампаньи, 3 февраля 1809 г. Archives des affaires étrangères.
70
Донесение Румянцева Александру, 30 января – 11 февраля 1809 г. Archives de Saint-Pétersbourg.
Письма Шампаньи к Коленкуру от 4, 14, 18 и 23 февраля 1809 г, Gf. les Oeuvres de Roederer, III, p. 537.
71
Шампаньи Наполеону, 4 января 1809 г. Archives nationales, AF, IV, 1676.
72
Mémoires de Metternich, II, 269 и 274
73
Mémoires de Metternich, II, 273.
74
Письмо Коленкуру, 14 февраля 1809 г.
75
Донесение Коленкура от 6 марта 1809 г.
76
Beer, op. cit 367, 369.
77
“В театрах, писал наш представитель от 23 марта, подхватываются все намеки на текущие события и в особенности те, которые относятся к независимости Германии; они сопровождаются бурными аплодисментами”.
78
Депеша поверенного в делах Додюна от 4 апреля 1809 г. Тот же агент писал 18 марта: “В 1805 г. войны желало правительство, но не армия и не народ. В 1809 г. ее желают и правительство, и армия, и народ”
79
Депеша Андреосси от 18 февраля 1809 г.