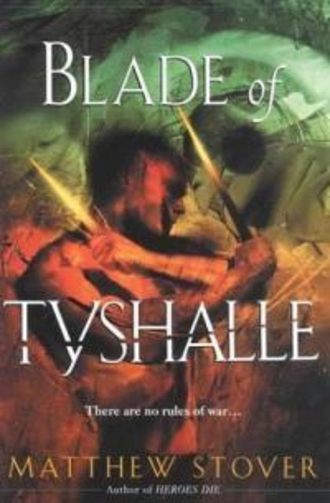 полная версия
полная версияКлинок Тишалла
И он этого ждет.
Всегда была в нем склонность к вагнеровским сценам.
Он семь лет изучал меня. Изучал Пэллес Рил. У него было достаточно времени, чтобы смоделировать сверхчеловеческим интеллектом все возможные комбинации ее способностей, моих умений, нашей тактики. Я знаю, он следит за мною колдовским зрением, выискивая намек на то, какие силы я попытаюсь притянуть к себе и как воспользуюсь ими. Застать его врасплох я вряд ли сумею.
Я и не пытаюсь.
Я поднимаю Косалл перед собой, повернув плоскость клинка к противнику в фехтовальном салюте. Ма’элКот отвечает мне ироническим поклоном.
– Я всегда знал, что мы придем к этому, Кейн. Мы с тобой враги от природы; потому ты возлюблен мною.
Вместо того чтобы отвести клинок направо – традиционная реакция на ответный салют, – я поднимаю его над головой, быстро, но без спешки.
В японских боевых искусствах есть понятие – переводится оно как «подобающая скорость», и усвоить его сложней всего. Двигаться с подобающей быстротой – значит действовать достаточно медленно, чтобы не пробудить защитные рефлексы противника, чтобы он не почувствовал атаки: не вздрогнул, даже не ощутил опасности. Миллионы лет эволюции по Дарвину заставляют нас воспринимать резкое движение как угрозу. С другой стороны, нельзя оставить противнику времени подумать: «Эй, блин, если он дальше высунет руку, то проткнет меня насквозь!» Равновесие хрупко; «подобающая» быстрота меняется в зависимости от ситуации и от личности противника.
Облажаешься – и турпоездка на тот свет у тебя, считай, в кармане.
Так что, покуда нас разделяет добрая сотня ярдов и Ма’элКот глядит, как сверкает на солнце меч над моей головой, и болтает, все еще болтает: «Мне всегда везло на…», я черпаю темную Силу, которая льется в меч, заставляя непослушные ноги сделать шаг.
И это становится сигналом для моей мертвой жены, заключенной в меч, – воспользоваться энергией, которую я щедро вливаю в клинок, чтобы смять пространство на манер семимильных сапог, так что щебенка, на которой стою я, и мостовая перед Ма’элКотом оказываются в одном шаге друг от друга, и нога, которую я поднял с развалин, опускается на брусчатку в полуметре от туфель под маркой «Гуччи», и меч, воздетый над моей головой, опускается ему на ключицу, когда я всем весом обрушиваюсь на чародейский Щит.
Ма’элКот успевает договорить «…врагов», прежде чем мы оба выясняем, что Косалл, питаемый черной Силой, действительно рассекает все. Включая Щиты.
Включая богов в костюмах от Армани.
8
Глаза Ма’элКота широко распахиваются, губы шевелятся беззвучно, и я налегаю на меч, покуда лезвие не выходит из тела над бедром.
Я спотыкаюсь – сраный шунт, сраные ноги! – но удерживаюсь на ногах и отступаю. Дальнейшее я хочу увидеть в подробностях.
Медленно, с ненатужным величием, словно горная лавина, его голова, правое плечо и половина торса соскальзывают со второй половины по блестящему алому склону. Ноги продолжают стоять еще пару секунд – распознать наискось перерубленные трепещущие органы почти невозможно – и знаете что?
От него не воняет.
Пахнет свежим фаршем, только что из мясной лавки. Мне как-то в голову не приходило: раз он добрых пятнадцать лет не брал в рот ни крошки, я с первой нашей встречи возводил на него напраслину.
Он вовсе не полон дерьма.
У меня остаются секунды две, прежде чем социки отстрелят мне жопу. Я трачу их с толком. Снова поднимаю Косалл, но в этот раз позволяю тяжелому клинку опуститься, маятником свисая из сжимающих эфес рук.
Ма’элКот смотрит на меня, неслышно булькая, но легкие остались большей частью в другой половине тела.
Со скоростью мысли в нескончаемом «сейчас» я вызываю перед мысленным взором образ Шенны – образ Пэллес Рил, тень богини, сияющую в ночном небе. Глаза ее сверкают, как солнце в горном ручье; рука, протянутая ко мне, нежна, как персик в тени листвы.
– Время пришло? – шепчет она в моем сердце.
– Прими мою руку, – отвечаю я.
Призрачная ладонь касается моей руки, и плоть наша становится как одна: ее кожа теплей жаркого лета красит солнцем мои отбеленные Донжоном руки, мое клейменное смертью сердце переносит ее в холодную осень. Мы сливаемся и путаемся, подвластные поверхностному натяжению и турбулентности, касаясь друг друга в геометрической бесконечности точек, и все же разделенные навеки.
Потому что живем мы все вместе, но умираем – по одному.
В этот краткий миг, соединенные таинством, по сравнению с которым наш брак – лишь бледное, выцветшее эхо дальних отзвуков, мы смотрим друг на друга и шепчем:
– Теперь я понимаю…
Мгновение мучительной тоски…
– Если бы я мог быть таким, как ты хотела…
– Если бы я могла принять тебя таким, каким ты был…
…А потом река вскипает во мне, от грязного ручейка на Кхриловом Седле до могучих рукавов в засоленных болотах Теранской дельты, где мы впадаем в океан…
…И сердце мое рвется, потому что единственное мое желание – остаться с ними навеки, но бесконечность «сейчас» подходит к концу, когда Шенна говорит:
– Прощай, Хэри.
…А я не могу даже ответить.
Вместо этого я прощаюсь с человеком, пойманным в ловушку умирающего у моих ног божества.
– Счастливого Успения, сука!
И, упав на колено, я всей своей массой вгоняю исчерченный рунами клинок Косалла ему в мозг.
Точно между глаз.
Сила хлещет по клинку вверх, сквозь мои пальцы, сквозь локти, сквозь плечи – стопорит сердце, взбегает по шее и гасит свет.
Есть сказанье о близнецах, рожденных от разных матерей.
Один из них – темный аггел смерти и разрушения, восставший из кокона смертной плоти бражник-»мертвая голова»; другой – подлый рыцарь огня, в чьем сердце дымится разметанный молнией пепел.
Оба живут, не зная, что они – братья.
Оба гибнут в бою со слепым богом.
Их связывают лунные паутинки, сплетенные из любви и ненависти; незримые, тем крепче становятся они: связывают с богом, который прежде был человеком, и с чадом темного аггела, с драконицей и дщерью реки, с мертвой богиней и друг с другом.
И там, где паутинки эти сплетаются в единую нить, она сшивает рваные судьбы миров.
Глава двадцать шестая
1
Как я был мертв – не помню.
Помню, какие сны наполняли мой медленно пробуждающийся из забвения разум, и знаю – казалось мне, будто я утопаю, или душат меня нечеловечески сильные руки, или на голову напялен пластиковый пакет. Я пытаюсь кричать, но не хватает воздуха…
Наверное, это следует считать благоприятным знамением. Посмертие, должно быть, весьма приятное местечко, раз я покидал его с такой неохотой.
Хотя вряд ли я узнаю точно.
Хотел бы вести свой рассказ в хронологическом порядке, если получится, но это непросто: связь событий не всегда укладывается в цепочку причин и следствий. Да и я не всегда уверен, в каком порядке что произошло – да так ли это важно, в конце концов? Кто-то написал однажды, что направление стрелы времени с точки зрения физики несущественно. Думаю, тому полузабытому ученому приятно было бы узнать, что моя история обретает смысл, только если рассказывать ее от конца к началу.
Когда у тебя лихорадка, это звучит гораздо разумней.
Иной раз я ловлю себя на мысли, что жизнь – это вирус; что вселенная подхватила ее два-три миллиарда лет назад и все живое в фантастическом его разнообразии – лишь ее лихорадочный бред, а неумолимая жестокость неодушевленного – иммунная система реальности, нацеленная излечить ее от жизни. И когда все живое погибнет, вселенная очнется от сна, зевнет разок-другой, потянется лениво и покачает метафорической головой, удивляясь, каких только нелепостей не породит больное воображение.
Когда на душе становится полегче, я об этом забываю.
Не всегда удается провести четкую границу между хандрой и экзистенциализмом.
Можно было бы предположить, что отныне меланхолия мне не грозит, но это не так; кажется, мне не грозят лишь старость и смерть. Так оно лучше – вечное счастье лишило бы меня человечности. А я, при всем прочем, еще человек.
Более-менее.
Но разъяснять мораль еще не рассказанной истории – значит лишать ее смысла. Значение – это цель. Иной раз мне кажется, что величайшая опасность, грозящая бессмертным, – неограниченная возможность отвлекаться.
Итак…
Я мог бы растянуть на много страниц описание первого своего пробуждения в новой жизни. Нанизывать деталь за деталью, сплетая меркнущие в памяти детали снов с невозможной нежностью теплых шерстяных одеял и тонких льняных простынь, мешая бодрящую боль пробивающих сомкнутые веки солнечных лучей с еле ощутимым запашком пуха в перинах, на которых я лежал. Стремление перечислять такие мелочи почти непреодолимо, потому что каждое ощущение, каждое переживание бытия стало для меня неописуемо ценным; хотя каждый вздох столь же сладостен, как предыдущий, в нем сквозит горечь, потому что я не в силах забыть, что вздох этот уникален не меньше, чем я сам, и как бы ни был прекрасен следующий – этого уже не вернуть.
Мне, впрочем, повезло: противоядие от тоски сидело рядом со мной, ухмыляясь по-волчьи.
Я открыл глаза, и оно сказало:
– Привет.
Я улыбнулся – и обнаружил, что у меня есть губы; стиснул его пальцы – и понял, что у меня есть руки. Мгновение спустя ко мне вернулся и голос.
– Так я не умер?
– Уже нет.
– Это хорошо. – Я слабо хихикнул.
– Что смешного?
– Ну… я увидел тебя и решил, что это не может быть рай.
Ухмылка стала шире – так он смеялся.
– Мне и так сойдет.
Я поразмыслил немного над его словами, наблюдая, как плывут в косых солнечных лучах пылинки. Окно было огромно, едва ли не больше титанической кровати с балдахином на восьми столбах. Начищенная медная лампа венчала каждый столб, покрытый тонкой резьбой по камню, похожему на полупрозрачный розовый мрамор, и в памяти моей всплыло его название: тьеррил .
Вот тут я понял, что мы в Поднебесье.
– Кейн!
– Да?
– Я передумал, – проговорил я. – По-моему, это похоже на самый настоящий рай.
Ближе к нему, чем я заслуживаю, закончил я мысленно.
Он поднялся на ноги, державшие его почти уверенно, подошел к обращенному на закат окну. Вечернее солнце красило его фигуру золотом и багрецом.
– Рад, что тебе так кажется, Крис, – отозвался он, – потому что так хорошо тебе больше не будет.
– Не понимаю.
Он посмотрел на закат.
– Я расскажу тебе историю…
2
Конец света наступил.
Старый мир, каким мы его знали, оказался разрушен вмиг, и на месте его воздвигся новый, иной, так похожий на своего предшественника, что возможно было обмануться их сходством. Время несуществования, разделившее их, само сводилось к нулю; никто не видел и не слышал, даже не ощутил разрыва, но люди знали.
Все переменилось.
Из объяснений Кейна я понимал, что произошло в миг обновления мира. Заклятие, начертанное рунами на клинке Косалла, заперло шаблон сознания Ма’элКота, как проделало это с богиней, – но поскольку сама богиня в этот момент при посредстве Хэри касалась речной песни, душа Ма’элКота прошла сквозь них обоих. Этот призрак, тень, бесплотный разум расточился бы, как дым на ветру, поглощенный великой песней, если бы не образ возвышенного Ма’элКота: икона, которой молились ежедневно миллионы Возлюбленных Детей, божество, которое наделяли они силой своего преклонения. Сила эта резонировала с паттернами самого Ма’элКота столь точно, что гармоническое смещение заставило их слиться полностью – и при посредстве Хэри и богини они коснулись Песни Шамбарайи.
В этот миг он стал в равной мере богом людей и составной частью мирового разума: силой, равной которой не было во всей многотысячелетней истории Дома. Он получил точку опоры и перевернул мир.
Он стал миром.
Но не тем, какого жаждал слепой бог.
Хватка слепого бога на сознании Ма’элКота была сугубо материальной: ее воплощал мыслепередатчик, имплантированный в череп физического тела Ма’элКота и оставшийся в его материальном трупе. И хотя в каком-то смысле Ма’элКот был таким же коллективным разумом, как слепой бог, он оставался личностью; и личность эта была прежде всего художником, так что разрушить красоту мира было ему не под силу.
Соединенная мощь массы его поклонников и Шамбарайи позволяла богу настраивать свою ауру даже на гармоники мирового разума. Он разлился рекой, навязывая свою волю великой симфонии, которой был Т’нналлдион – Дом.
Его удар был изящен: он расширил силовой щит, отсекавший Анхану от порталов Уинстона, до пределов всей планеты. В долю секунды прервались передачи от всех актеров в Поднебесье.
А в следующий миг он добавил в Песнь мира новую ноту. Ни Кейн, ни я не смогли внятно описать ее действие. Можно сказать, что он слегка подправил местные законы физики.
Он уничтожил вероятность воплощения слепого бога.
Уничтожил напрочь: на квантовом уровне.
Малая доля слепого бога, простершаяся в Поднебесье, распалась, и останки ее брызнули фонтаном угольно-черных осколков. Тварь, будто рассеченный лопатой червь, свернулась клубком в своем логове, чтобы зализывать раны и копить злобу.
Социальные полицейские в Анхане ощутили эту перемену: на них внезапно накатила паника, настоящая, древняя – бессмысленный ужас заблудившегося в темном, глухом лесу, в объятьях нелюдского бога. Многие кричали, все до единого – пошатнулись, большинство бежало прочь, иные обратили оружие против друг друга или стреляли в воздух.
Некоторые повернулись против Кейна, павшего на колени посреди Божьей дороги, другие – к лимузину, третьи целились в любую мишень, какая попадется. Все они погибли, не успев нажать на курок.
Несколько социков выжили. Я еще не решил, что с ними делать.
Покуда пусть посидят в Яме.
Когда Кейн закончил свой рассказ о конце света, я поразился иронии судьбы.
– Ты сделал его богом. Ты даровал ему преображение, и он вознесся на небеса. В день Успения.
– Ага.
– Ты взял легенду о Кейне и Ма’элКоте и воплотил ее в жизнь.
– Легенда, – промолвил Кейн, – это такое неопределенное понятие…
– Ты победил врага, исполнив заветное его желание.
Он пожал плечами.
– Я не совсем уверен, что могу назвать его врагом. – Он вздохнул. – У нас… сложные отношения.
– Не понимаю одного, – заметил я. – Откуда я взялся? Почему я жив? При чем я здесь вообще?
Улыбка сошла с его лица. Опустив глаза, он переплел пальцы и пулеметно пощелкал суставами.
– Это, – ответил он, – совсем другая история.
3
Новый рассказ его начинается через пару дней после конца света: когда собраны были сотни, тысячи трупов, отрыты могилы и зажжены погребальные костры. Начинается на бушприте Старого города – на груде камней, бывшей когда-то Шестой башней, над песчаной косой. Кейн стоял на песке, держа на руках дочку, а почетная стража – все оставшиеся в живых рыцари двора – смотрели на них с развалин.
Но я не стану пересказывать его повесть: меня гораздо сильней трогает собственная. Его подарок, устройство, которое он зовет Кейновым Зерцалом, позволило мне поздней увидать все, описанное им, своими глазами. И, невзирая на увиденное, для меня важней, как именно я поведу свой рассказ.
Начинается он так.
Рука обнимает Веру за плечи. Девочка висит у него на шее, уткнувшись лобиком в ямку над ключицей. На плечи Веры наброшена шаль с белыми кистями – знак траура, по обычаям Анханы; Кейн облачен в новые штаны и куртку черной кожи, препоясан простой веревкой; на ногах его мягкие туфли.
В клинке Косалла отражается восходящее солнце, покуда Кейн прощается с женой.
Не стану пересказывать, о чем беседовали они трое в те минуты. Зерцало – оно стоит на моем столе, покуда я пишу эти строки, – показало мне не все, но и о том, что я знаю, вспоминать нестерпимо. Скажу лишь, что прощание их было кратким и сердечным. Остальное пусть поведает Кейн, коли захочет; желающих прошу к нему и обращаться.
Скажу одно: Пэллес Рил пожелала уйти.
Она не могла быть одновременно женщиной и богиней; хотя в ее власти было воссоздать свое смертное тело, вернуть душу смертной ей было не под силу. Стать богом – значит навеки остаться не до конца личностью, но стать до конца богиней она еще могла.
И не придумать ей было лучшего способа сохранить в безопасности своих близких.
А когда отзвучали слова прощания, Кейн вогнал меч в валун перед собою по самую рукоять.
– Вера, милая, слезь-ка на минуту, – пробормотал он, опуская девочку на мокрый песок. Та послушно отступила на шаг.
– Поехали, – пробормотал он себе под нос.
И сила, к которой он обращался, ответила ему огнем.
Он простер руки к камню, и с ладоней его сорвалось пламя жарче солнца; зрители заслонили руками лица, и даже Кейну пришлось зажмуриться. А когда пламя угасло, от каменной глыбы осталась лишь лужа застывающего шлака. Косалл же исчез без следа.
Пэллес Рил навеки осталась в реке.
Для нее это был счастливый конец.
Единственным реквиемом на ее похоронах прозвучал плеск волн на Великом Шамбайгене, да болтовня белок, да крик одинокого орла высоко-высоко над головой.
Чуть промедлив, Кейн склонился к дочери:
– Пойдем?
Та серьезно кивнула.
Он протянул руку, чтобы подхватить ее, но девочка крепко сжала ее.
– Я уже большая, – заявила она. – Сама пойду.
– Да, – согласился он промедлив, со странной неохотой. – Уже большая.
Когда они помогали друг другу взобраться на развалины башни, в мозгу Кейна прозвучал суховатый голос:
– Как трогательно.
– Имей уважение, – буркнул Кейн.
– Что за ирония: тот, кто менее всех привык выказывать уважение, более прочих его требует.
– Заткни хлебало.
Вера пристально глянула на него:
– Ты опять разговариваешь с богом?
– Ага, – ответил Кейн.
Девочка понимающе кивнула.
– Бог – он иногда бывает такая падла .
– Точно.
4
Они миновали шеренги рыцарей двора, выстроившихся по стойке «смирно» – оружие на-грудь, знамена опущены. За ними, одна, дрожа от холода, несмотря на роскошную енотовую шубу на плечах, стояла Эвери Шенкс.
Кейн и Вера остановились перед ней.
Старуха встретила взгляд убийцы, не дрогнув.
– Вера… – проговорил Кейн, отпуская ее руку, и чуть подтолкнул между лопатками. – Иди к гран-маман. Возвращайтесь во дворец.
В глазах Веры зияла пустота – река пела в ее мозгу.
– Хорошо. – Она внимательно глянула на него: – Я люблю тебя, папа.
– Я тебя тоже, милая. Просто… у меня есть дела. Взрослые. К ужину вернусь.
– Честно-честно?
– Обещаю, – ответил он, и память о том, как он в последний раз давал ей слово и не смог его сдержать, иззубренными крючками царапнула по сердцу.
Вера неохотно подошла к бабке, взяла ее за руку. Кейн снова посмотрел Эвери в глаза:
– Позаботься о ней.
Старуха фыркнула.
– Уж получше, чем заботился ты, – ответила она. – Получше, чем ты мог бы.
Глядя, как они уходят рука об руку, пробираясь извилистыми тропками, расчищенными на заваленных обломками улицах, Кейн пробормотал про себя:
– Мне всегда везло на врагов.
– Хм , – сухо прогудел голос в его черепе. – Льстец .
Кейн открыл было рот, чтобы ответить, но вместо того поморщился и молча помотал головой. С трудом переставляя ноги, он перебрался через рухнувшую стену, направляясь в сторону улицы Мошенников и Шутовского моста. Когда он вел свой рассказ, то упомянул, что хотелось ему в тот момент идти куда глаза глядят, лишь бы убраться с острова. Кейново Зерцало подтверждает его слова, но, полагаю, это не вся правда. Думаю, ему хотелось добраться до Лабиринта и узнать, что случилось с его прежними знакомыми.
Что осталось от него самого.
5
Провал посреди Шутовского моста, где опорные балки прогорели дотла, был перекрыт дощатым настилом, стянутым узловатыми пеньковыми канатами, но тем утром грузчики одну за другой катили через мост тачки с кирпичом и кусками известняковой кладки, так что Кейн, чтобы перебраться через мост, воспользовался натяжными мостками: два каната, переброшенных один над другим через провал. Он не остановился над водой – он продолжал переступать по канату, цепляясь за колкую пеньку, – но мысли о жене не покидали его, пока внизу бурлили волны. Он вспоминал, если верить его актерскому монологу, то, что показала она ему в нескончаемый миг, когда он слился с рекой: что река вмещает в себя все в границах своего бассейна и все вокруг нее есть река.
Он думал о множестве мужчин, женщин, детей на Земле, для которых река – это природная уборная, годная лишь на то, чтобы поглощать испражнения. Он испытывал к ним жалость – отстраненную, абстрактную, безличную, но не слишком сильную. Если они хотят жить в другом мире, пусть меняют свой.
Это была уже не его проблема.
«Именно так. Но встает вопрос: что за проблемы достались тебе?»
Миновав мост, Кейн долго бродил по северному берегу от Лабиринта до руин Города Чужаков и обратно. Улицы были полны народа. Горожане расчищали завалы, отделяя то, что еще можно сохранить и использовать, от того, что годилось лишь на свалку. Трупы по большей части были уже несколько дней как вывезены и сожжены, и на лицах горожан читалось мрачное упрямое веселье, братство обездоленных, выдававшее общее стремление заново отстроить свой дом.
Большей частью новая Анхана будет строиться из леса, выросшего противоестественной краткой весной: молодые, полные сока стволы обгорели лишь снаружи, где нафта просочилась сквозь кору. Сердцевина же осталась крепкой. Из пепла и щебня восстанет костяк столицы.
Куда бы ни шел Кейн, его приветствовали кивками. Странное это было чувство: все узнавали его – и никто не страшился. Его встречали с уважением, близким к священному трепету. Большая часть жителей Анханы принадлежала к числу Возлюбленных Детей Ма’элКота, и каждый из них очнулся в новом мире, загадочным образом зная, что сделал Кейн для них и для всего мира.
Но, думаю, еще удивительней ему было брести, и брести, и продолжать свой путь, не имея определенной цели, дружески кивать в ответ на приветствия, слушать, как шумит ветер и как болтают прохожие, чуять гарь на ветру и ощущать, как хрустит под ногами щебень…
И не находить себе дела.
Не могу быть уверен – Зерцало не хранит в себе никаких комментариев, – но, полагаю, безделье утешало его. Последние несколько дней были для него единственным отдыхом от сражений нескончаемой войны. Всю жизнь Кейна он должен был кого-то убивать, или кто-то хотел убить его; всегда находилось сокровище, которое следовало найти, или затея, которую полагалось осуществить, – непрестанное давление, требовавшее занять публику.
А теперь он сам был публикой и находил необыкновенно занятным извилистый путь облака в осеннем небе.
Всякий раз, когда в блужданьях своих Кейн приближался к Лабиринту, он ловил себя на том, что пялится на громаду Медного стадиона. Единственное каменное строение во всем Лабиринте громоздилось над выгоревшими руинами. В прежние годы Кейн был почетным бароном среди подданных Канта – банды, облюбовавшей брошенную арену под свое логово. В те годы кантийцы были его семьей. Свою семью на Земле – отца – он оставил ради Монастырей; бросил Монастыри ради подданных Канта и отшвырнул их, чтобы создать семью с Пэллес Рил…
И снова Зерцало молчит. Возможно, я уже не столько пересказываю повесть Кейна, сколько начинаю свою.
Порой мне трудно бывает их разделить.
С уверенностью могу сказать: Кейн часто и подолгу смотрел на Медный стадион, дважды без особого энтузиазма пытался оторвать доски, которыми были забиты ворота, словно собираясь зайти, и дважды отступался. Монолог его доносит до меня следующие слова: «Я ломлюсь не на ту арену».
С этими словами он вновь двинулся на запад, но уже целеустремленно, вдоль набережной к Рыцарскому мосту. Добравшись до Старого города, он миновал кратер на месте Зала суда, едва бросив на него взгляд.
Полагаю, Кейн и правосудие всегда имели мало общего.
Что до меня, то всякий раз, как запись доходит до этого момента, у меня стынет сердце. Этот кратер, эта покрытая коростой шлака язва на теле города – дело моих рук.
Я умер, творя ее.
Нелегко на нее смотреть.
Сейчас, когда пишутся эти строки, я уже несколько недель размышляю над тем, каково быть мертвым. Думать об этом тоже нелегко.
Кейн пробыл на том свете семь лет.
Запись хранит лишь мешанину эмоций, изменчивых и переплетенных настолько, что определенной остается лишь их всепоглощающая мощь; но я не стану даже гадать, о чем думал Кейн, когда, перейдя Царский мост, впервые увидал собственными глазами Успенский собор.

